Институт психологии им. Л.С. Выготского
Российский государственный гуманитарный университет
ДИПЛОМНАЯ РАБОТА
ИДЕЯ РЕФЛЕКСИВНОСТИ В ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
Москва – 2009
Содержание
Введение
Глава I. Философско-теоретические предпосылки идеи активности и рефлексивности в культурно-деятельностной психологии
§1. От Декарта к Спинозе
§2. Мозг или тело?
§3 От «S-R» к предметности
Глава II. Понятие жизни как основание выделения критерия психического
Глава III. Рефлексивность
§1. От клетки к организму
§2. Ансамбль субактивностей
§3. От вольвокса к человеку
§4. От висцерального субъекта к личности
Заключение
Библиография
Введение
Отечественная психология обладает выдающимся теоретическим наследием, основы которого были заложены трудами Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна и ученых их школы. Идущая от них традиция изначально складывалась в полемике с позитивистски ориентированной психологией и основывалась на серьезном культурно-философском фундаменте (немецкая классическая философия, высокий европейский рационализм в целом). Яркими представителями такой «философской психологии» наряду с Л.С. Выготским и А.Н. Леонтьевым были Э.В. Ильенков, В.В. Давыдов, В.С. Библер. Из сегодняшних исследователей к числу теоретиков этого научного жанрапринадлежит Ф.Т. Михайлов.
Между тем, в последние годы в российской психологии в целом стал ощущаться закономерный спад интереса к фундаментальным теоретическим проблемам. Культурно-историческая психология и психология деятельности в том их виде, в котором они достались в наследство нынешнему поколению исследователей, не устраивает последних. Поскольку альтернативных отечественных концепций подобного масштаба за последние десятилетия предложено не было, сегодня все чаще наши российские коллеги обращаются к известным концепциям психологии зарубежной, концепциям далеко не новым и уже во многом выработавшим свой эвристический потенциал. Среди психологов-практиков широко распространился взгляд, согласно которому сегодня вообще нет нужды в какой-либо теории, а наиболее практичной является позиция принципиального эклектизма.
В то же время в современной зарубежной психологии наблюдается прямо противоположная тенденция. Из года в год нарастает интерес именно к российской теоретическойпсихологии, идет наряженная работа по интерпретации и развитию фундаментальных идей российской культурно-деятельностной школы[1] (Дж. Брунер, М. Коул, С. Скрибнер, Дж. Верч, Д. Бэкхэрст, Ю. Энгештрём, Р. Ван дер Веер, Ж. Карпей, С. Веджетти, Л. Гараи, М. Хеддегард, Й. Ломпшер, К. Амано, Ш. Дои, Э. Камия и др.). Данное обстоятельство лишний раз демонстрирует настоятельную необходимость возврата нашей психологией лидирующих позиций в разработке этих приоритетных для мировой психологии направлений.
Необходимость возврата на эти позиции (их сохранение и развитие) продиктована не только соображениями «престижа» или восстановления исторической справедливости. Движение в этом направлении предполагает категориальное осмысление (переосмысление) содержания фундаментальных психологических понятий – психики, сознания, деятельности, субъекта, личности, аффекта (в широком понимании, представленном линией Аристотель – Декарт – Спиноза – Выготский), смысла и др. Дефицит такого осмысления в большей или меньшей степени осознается современными психологами. В.В. Давыдов утверждал, что психология второй половины XX столетия является не «категориальной», а «понятийной».
Именно попытки категориально осмыслить содержание этих понятий актуализируют мировоззренческую доминанту психологического знания. Их результатом является построение своеобразной «психологической картины мира», благодаря чему знания о психической реальности кардинально меняют сам образ действительности, сложившийся в научном сознании. В истории психологии эти попытки связаны с именами З. Фрейда, К. Юнга, Э. Фромма, Дж. Дьюи, Ж. Пиаже, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, Э.В. Ильенкова, В.В. Давыдова. Жанр, в котором работали все эти, очень разные, ученые, можно назвать философско-психологическим или логико-психологическим (В.В. Давыдов) анализом. Направленность их творчества объединяла рефлексия на предельные основания психологического знания, что характеризует собственно теоретическую психологию в отличие от психологической теории «вообще». Эта рефлексия не замыкалась для них в рамках теории, а продолжалась на уровне экспериментальных исследований и даже прикладных разработок.
Сейчас необходимо реконструировать этот опыт категориального осмысления психической реальности, который далеко не всегда явно и полно оформлен в текстах названных ученых. Одним из ее результатов стала идея изначальной рефлексивности отношения субъекта к миру (в мире), понимание самоотношения как исходной и фундаментальной формы такого отношения. Традиционный взгляд на природу и генез психической реальности предполагает рассматривать это самоотношение в качестве «надстройки» к ее конструкции, которая возникает на сравнительно поздних этапах фило- и онтогенеза. Мы же, следуя Ф.Т. Михайлову (который развивает в данном пункте классическую философскую традицию, идущую от Спинозы, Фихте, Гегеля, Маркса, Выготского и Ильенкова), полагаем, что она является формопорождающим началом этой конструкции уже в момент «закладки» ее фундамента.
Для априоризма и натуралистического преформизма самоотношение предстает как предустановленное (по Гегелю – абстрактное) тождество субъекта самому себе и своим (ограниченным в эмпирическом пространстве и времени) возможностям. Для философско-диалектической традиции так понимаемая идея рефлексивности субъектного отношения, напротив, нацеливает исследователя на анализ феномена несовпадения субъекта с самим собой, с бесконечным многообразием потенциальных перспектив собственного развития (В.С. Библер, Ф.Т. Михайлов). Становление самоотношения в истории и онтогенезе понимается как творческий процесс идентификации субъекта с миромкак целым в той мере, в какой он воспроизводится в содержании и способах его жизнедеятельности (конкретное, по Гегелю, тождество Я Миру, а в силу этого тождество Я самому себе). При этом раскрытие развитых, «вершинных» форм самоотношения (феномены теоретической рефлексии, самосознания, долга, совести, исполнения Миссии и др.) позволяетпроникнуть в строение его простейших, генетически первичных, элементарных форм. Иными словами, проблема самоотношения может и должна изучаться с позиций диалектического принципа единства исторического и логического.
Подобные представления отвечают мировоззренческим установкам европейской научно-теоретической культуры. Для нее многообразие активных форм отношения человека к миру выступает логической производной его жизненно-практического (в своих всеобщих проявлениях – деятельного) самоотношения и потому может быть выведено из этой исходной «клеточки» методом восхождения от абстрактного к конкретному.
В общей форме теоретико-психологическая идея рефлексивности отношения человека к миру заложена в трудах Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Н.А. Бернштейна, М.М. Бахтина, Э.В. Ильенкова. Ее конкретизацию на генетическом материале мы находим в известных исследованиях А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, по сути, посвященных проблеме самопорождения и самоизменения субъекта деятельности. В последние годы эта идея все чаще вовлекается в орбиту теоретико-психологических, в том числе – философско-психологических, дискурсов (В.С. Библер, Ф.Т. Михайлов, А.С. Арсеньев, Г.В. Лобастов, А.Г. Новохатько, В.П. Зинченко, В.А. Петровский, А.Г. Асмолов, В.И. Слободчиков, Г.А. Цукерман, А.В. Суворов, Б.Д. Эльконин, В.Т.Кудрявцев, Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова и др.).
Вместе с тем трудности на пути решения многих конкретно-психологических проблем, возникающих на этом пути (проблемы генезиса самосознания, становления идентичности, специфики личностного роста как самопреобразования и др.), обусловлены одним существенным обстоятельством. Речь идет о необходимости историко-теоретической реконструкции философского контекста обоснования и реализации идеи рефлексивности в поле собственно психологических исследований. Опытом подобной реконструкции наука до сих пор не располагает.
Глава I. Философско-теоретические предпосылки идеи активности и рефлексивности в культурно-деятельностной психологии
§1. От Декарта к Спинозе
Теоретическое мышление никогда не начинает свое движение с нуля, на пустом месте, но всегда имеет дело с некоторой суммой знаний, теоретических представлений, накопленных предшествующими поколениями исследователей.
Приступая к выработке и обоснованию нового понимания той или иной проблемы, в нашем случае - проблемы человека и его психики, теоретику прежде всего приходится определить свое отношение к господствующим, а следовательно - сложившимся до и независимо от него, представлениям о природе объекта его теоретизирования.
Так, Декарту, как основоположнику новоевропейской философии, было необходимо так или иначе критически отнестись к религиозно-схоластическим представлениям о человеке, представлениям, согласно которым человек состоит из телесной оболочки, которая сама по себе несущественна и мертва, и некоторого бестелесного начала - души, которая, мистическим способом поселяясь в человеческом теле, оживляет - одухотворяет последнее.
Декарту в целом не удалось преодолеть приведенную выше точку зрения на природу человека, однако сам ход его размышлений представляет интерес, поскольку в нем отчетливо прослеживается тенденция, развитие и углубление которой привело Спинозу от картезианского дуализма к материалистическому монизму.
Декарт различает два строго независимых начала: субстанцию мыслящую и субстанцию протяженную. Все конечные вещи представляют собой лишь модусы указанных субстанций. Они суть либо различные определения мышления, либо бездушно-протяженные тела. Невозможность какого-либо естественного взаимодействия между этими двумя субстанциями, их абсолютная независимость друг от друга вытекает уже из самого их определения в качестве субстанций абстрактно противоположных, не имеющих между собой абсолютно ничего общего.
Однако сам же Декарт не выдерживает до конца эту последовательно дуалистическую точку зрения, когда оказывается вынужденным, вопреки своим же собственным заверениям, признать очевидный факт взаимодействия этих двух субстанций в теле живого и мыслящего человека. Воля, т.е. модус мышления, способна определять человеческое тело к движению, равно как и чисто телесное страдание определяет человеческую душу к мышлению, к восприятию внешних тел.
Картезианский человек, таким образом, вновь, как и в средние века, оказывается сложенным из двух начал, из двух «половинок» - из немыслящего, бездушного тела[2] и из бестелесной, мыслящей души. Между тем, человеческая душа, о которой пишет Декарт, есть не что иное как психика реальных людей, а это означает, что на принципиальный для психологии вопрос о субстанции всех ее феноменов Декарт дает однозначный ответ - субстанцией (сущностью) психики (души) является мышление, понимаемое как некоторый чисто бестелесный, нематериальный процесс, процесс, все специфические особенности которого могут быть поняты только при условии самого строгого отвлечения от каких бы то ни было определений мира протяженных тел, т.е. в конечном итоге только из бога.
Бог же, в свою очередь, в понимании, как Декарта, так и христианских теологов есть дух, причем дух бесконечный, принципиально не могущий быть сколько-нибудь адекватно понятым посредством конечного человеческого мышления, а значит объяснение природы человеческого мышления (психики), в том числе - объяснение его универсальности, апеллирующее к богу есть мнимое объяснение и как таковое по существу есть лишь некритическое описание некоторой эмпирии. Из этого же, между прочим, следует, что все психологические концепции, не выходящие за рамки картезианского дуализма и понимающие человеческую психику как некий чисто бестелесный, абстрактно-духовный процесс, существующий наряду, параллельно с чисто телесными процессами, не идут дальше эмпирического описания отдельных феноменов психического, а по уровню своей логики благополучно остаются на уровне XVII века.
Но может быть в таком случае правы теоретики, которые вовсе отбрасывают картезианское представление о бестелесной душе и пытаются вывести все определения мышления, психики из материи, понимаемой опять-таки в духе Декарта, т.е. как абстрактно протяженная субстанция?[3]
Увы, они, мы полагаем, находятся еще дальше от истины, чем последовательные спиритуалисты. Последние, пусть в извращенном, мистифицированном виде, признают специфику мышления. заключающуюся в его универсальности, тогда как все попытки реконструировать человеческую психику, исходя из картезианской протяженной субстанции, из материи, единственным свойством которой признается абстрактно-геометрическая протяженность, могут привести лишь к отождествлению человека с конечной и односторонней машиной. Между тем, сам Декарт прекрасно понимал принципиальное, качественное отличие человека от любой, пусть даже самой совершенной рефлекторной машины.
Сколь совершенна ни была бы такая машина, - рассуждает Декарт, - и сколь бы внешне она ни походила на нас, мы всегда сможем отличить ее от человека. И одно из средств к этому «состоит в том, что хотя бы такие машины выполняли много вещей так же хорошо или, может быть, даже лучше, чем кто-либо из нас, они неизбежно не могли бы выполнить ряда других, благодаря чему обнаружилось бы, что они действуют не сознательно, но лишь в силу расположения своих органов. Ибо, в то время как разум является орудием универсальным, которое может служить при всякого рода обстоятельствах, эти органы нуждаются в некотором особом расположении для выполнения каждого особого действия»(Декарт, 1950: 301).
Это рассуждение Декарта, помимо прочего, интересно еще в том отношении, что в нем, по существу, содержатся предпосылки выхода за рамки его дуалистической концепции и в неявной форме уже присутствует спинозовское понимание мышления, как способа действия мыслящего тела.
Обосновывая принципиальное, коренное отличие существа, наделенного мыслящей душой - «разумом» от существа таковой не обладающего, Декарт обращается к различию их реального, развивающегося в мире протяженных тел способа действия. Тем самым сокровенная природа мышления, «мыслящей субстанции» понимается им через действие противоположной субстанции, ибо действие тела, его движение, с точки зрения Декарта есть модус субстанции протяженной. Но это означает, что объективная логика существа дела в этом пункте вплотную приблизила Декарта к Спинозе.
Спиноза, в отличие и в противоположность Декарту - монист, причем монист последовательный и принципиальный. В самом исходном пункте своих размышлений он категорически отвергает картезианское представление о существовании особой духовной субстанции, существующей наряду с материальной или «протяженной» субстанцией, представление, которое изначально расчленив природу на две по сути дела несоединимые половины, затем тщетно бьется над их воссоединением.
C точки зрения Спинозы, мышлением как имманентной способностью обладает не некоторая особая бестелесная субстанция или нематериальная душа, но сама бесконечная Природа, понятая в единстве всех своих качеств, атрибутов. В реальном, телесном человеке мыслит не некоторый особый неизвестно откуда взявшийся и неизвестно как вселившийся в него дух. «В человеке, в виде человека, в его лице мыслит сама природа... В человеке природа поэтому мыслит самое себя, осознает самое себя, действует сама на себя»(Ильенков 1974: 24).
На языке своего времени Спиноза формулирует эту мысль следующий образом: «Мышление составляет атрибут бога, иными словами бог есть вещь мыслящая (res cogitans) (Спиноза 1957: I-404). Бог, Природа и Субстанция у Спинозы - разные слова, обозначающие одно и то же. Deus sive Substantia sive Natura - вот формула Спинозы. Но это значит, что приведенную выше первую теорему из второй части спинозовской Этики мы с полным правом можем прочесть следующим образом: мышление есть свойство, атрибут Природы или субстанции, соответственно Природа, субстанция есть вещь мыслящая.
Будучи «вещью мыслящей» Природа, разумеется, не теряет своего чувственно-протяженного характера. Протяжение так же как и мышление есть свойство, атрибут субстанции «бог есть вещь протяженная (res extensa)» (Спиноза 1957: I-404), а значит картезианские мыслящая и протяженная субстанции, с точки зрения Спинозы, «составляют одну и ту же субстанцию, понимаемую в одном случае под одним атрибутом, в другом под другим» (Спиноза 1957: I-407).
Из этой центральной идеи философии Спинозы с логической необходимостью вытекает положение, имеющее принципиальное значение для материалистической психологии, которое гласит «душа и тело...составляют один и тот же индивидуум, представляемый в одном случае под атрибутом мышления, в другом под атрибутом протяжения» (Спиноза 1957: I-426).
Формулируя это положение, Спиноза окончательно решает картезианскую психофизическую проблему - проблему взаимодействия души и тела. И действительно, коль скоро человек перестает пониматься как существо сложенное из двух субстанций, двух «индивидуумов», то лишается всякого смысла вопрос о том, как эти две равно ложные абстракции - абстракция самостоятельно существующего мышления» бестелесной души и абстракция столь же самостоятельно существующего немыслящего тела - взаимодействуют в живом человеке.
С точки зрения Спинозы, нелепо даже задавать вопрос, как взаимодействуют тело и душа. «Ни тело не может определять душу к мышлению, ни душа не может определять тело ни к движению, ни к покою, ни к чему-либо другому (если только есть что-нибудь такое)» (Спиноза 1957: I-497), между ними в принципе не может существовать каузального отношения, ибо «душа и тело составляют одну и ту же вещь» (Спиноза 1957: I-458).
Но отсюда следует, что действие мышления, будучи действием того же самого «индивидуума», той же самой «вещи», которая, помимо способности к мышлению наделена также и протяженным телом, будет телесным, пространственно-определенным действием. А этот ход мысли решительно переориентирует как философию, так и психологию с безнадежных попыток понять природу мышления, психики вообще в качестве действия некой особой бестелесной субстанции, отличной от субстанции материальной Природы и противоположной ей, на путь научного изучения мышления и психики как способа действия, способа существования мыслящего тела.
Таким образом, на кардинальный для психологической науки вопрос о субстанции ее явлений, без ответа на который психология обречена на нескончаемые блуждания в потемках эмпирически-эклектического описания феноменов психического, неизбежным дополнением к которым всегда является чисто идеалистическая спекуляция, философия Спинозы дает принципиально материалистический ответ. И этот ответ гласит: субстанцией, всеобщим основанием мышления является вся материальная Природа, взятая в целом, мировая материя.
Однако значение Спинозы для психологической науки не исчерпывается этим крайне важным положением, Спинозе принадлежит также мысль о том, что понять мышление - значит понять специфический способ действия мыслящего тела, способ, который заключается в том, что тело мыслящее способно действовать в мире других тел в соответствии с формой предмета своего действия, а не по схемам, «программам» своего собственного телесного устройства. Поскольку же в бесконечной Природе человеку или любому другому мыслящему существу может встретиться бесконечное число объектов, в соответствии с формой которых[4] ему надлежит построить свое разумное действие, постольку этот человек обнаружит тем большую способность к мышлению, чем пластичнее и универсальнее будет его собственное мыслящее тело.
«Человеческая душа, - пишет Спиноза, - способна к восприятию весьма многого и тем способнее, чем в большее число различных состояний может приходить ее тело» (Спиноза 1957: I-420). Здесь, однако, возникает специфическая трудность. Хотя человеческое тело наиболее универсально по сравнению с телами всех известных нам живых существ, не говоря уже о машинах, «запаса» универсальности человеческого тела явно недостаточно для многих действий, которые абсолютно превосходят его физические, телесные возможности, таких действий, как восприятие лучей, невидимых для человеческого глаза или перемещение тел, вес которых намного превосходит его физическую силу. А значит, мышление о таких телах и процессах, действие по форме которых невозможно для человеческого тела в силу его естественной ограниченности, начинает казаться необъяснимым с точки зрения Спинозы.
Однако указанная трудность легко преодолевается, если рассуждать в строгом соответствии с логикой Спинозы, хотя бы это рассуждение и вывело нас формально за пределы его философии. Достаточно отказаться от представления о мыслящем теле как о теле натурально-биологическом и обратиться к понятию «неорганического тела человека».
Мышление, согласно Спинозе, есть способ действия мыслящего тела, действия, непосредственно совпадающего с формой объекта, активно ему уподобляющегося. Но любое «неорганическое», культурное орудие, направляемое человеческое рукой, по форме предмета будет в таком случае органом мыслящего тела человека, органом, увеличивающим физические возможности этого тела до требуемого масштаба. А значит, универсальность человеческого мышления будет опять-таки находиться в неразрывной связи с универсальностью его тела, с тем единственным уточнением, что это тело будет являться продуктом не абстрактной Природы, но Природы, достигшей в своем развитии уровня общественно производящего свою жизнь человека, продуктом человеческого труда.
Но, коль скоро мыслящее тело человека раздваивается на органическое, природное и неорганическое, то из этого возникает парадоксальная на первый взгляд проблема отношения субъекта к собственной телесности, равно как и проблемы исторического и онтогенетического становления этого отношения. Тогда, помимо прочего, возникает возможность исторического анализа развития человеческой телесности и его к ней отношения, своего рода историческая морфология и историческая физиология. Так последовательное принятие спинозовского понимания мышления приводит нас к возможности и необходимости создания подлинно исторической психологии.
Приведенный поворот мысли, как мы уже говорили, выводит нас формально за рамки философии самого Спинозы. Однако, мы полагаем, что сегодня, быть спинозистом можно, лишь учитывая все то, что было сделано в философии за те годы, которые отделяют нас от этого великого мыслителя. В том числе Гегелем, Марксом и Ильенковым.
§2. Мозг или тело?
Мы не случайно начали наш анализ с картезианской психофизической проблемы и ее принципиального теоретического решения, предложенного Спинозой, ибо позиция, занимаемая психологами-теоретиками в отношении к картезианской дихотомии, и есть то критическое различение, которое разводит их по разные стороны теоретических баррикад. Именно эта мысль лежит в основании последней, незавершенной работы Л.С. Выготского «Учение об эмоциях», а вернее «Спиноза», как он сам называл эту свою незавершенную рукопись. Последняя, будучи известной близкому кругу учеников еще в рукописи и широкой научной общественности с 1983 года, когда она вышла в 6-им томе собрания сочинений, до сих пор фактически так и не вошла в научный оборот. Редкие ссылки на нее носят чисто исторический характер. Есть серьезные основания полагать, что именно незаконченная рукопись «Спиноза» представляет собой вершину творчества Л.С. Выготского, его теоретическое завещание.
Между тем, к анализу психологических учений через призму картезианской психофизической проблемы Л.С. Выготский подступался и раньше - в опубликованной в 1930 году статье «Психика, сознание, бессознательное». Статья эта не относится к числу часто цитируемых и упоминается, как правило, лишь в дидактическом контексте. Между тем, заслуживает она куда более пристального внимания, ибо в ней Л.С. Выготский обсуждает центральный для всей теоретической психологии вопрос - вопрос о сущности психики как таковой, а посему пристальный теоретический анализ этой статьи может поспособствовать наведению порядка не только в студенческом теоретическом багаже.
Статья помимо прочего интересна еще и тем, что в ней в наиболее явном виде Л.С. Выготский обнаруживает философско-логическую основу своего теоретизирования, свой теоретический метод, в соответствии с которым он определяет развиваемую им психологическую теорию как «диалектическую психологию».
Утверждая это, мы полностью отдаем себе отчет в том, что подобная оценка будет принята подавляющим большинством нашего психологического сообщества, мягко говоря, без большого энтузиазма. Но… из песни, как и из творчества Л.С. Выготского слова не выкинешь. Подобные попытки на наши взгляд равносильны попытке «современно» прочитать партитуру моцартовского Реквиема, выкинув из нее отдельные особенно досаждающие современному слуху гармонии и темы.
Итак, для начала Л.С. Выготский предлагает теоретически различать направления современной ему психологии по тому, в какой из картезианских субстанций они находят начала и концы психологической причинности. «Достаточно… вспомнить объективную психологию И.П. Павлова и американских бихевиористов, совершенно исключающих психические явления из круга своего исследования, и сравнить их со сторонниками так называемой понимающей, или описательной, психологии, единственная задача которой — анализ, классификация и описание феноменов психической жизни без всякого обращения к вопросам физиологии и поведения, — стоит только вспомнить все это для того, чтобы убедиться, что вопрос о психике, сознательном и бессознательном имеет определяющее методологическое значение для всякой психологической системы. В зависимости от того, как решается этот основной для нашей науки вопрос, находится и самая судьба нашей науки» (Выготский 1982: I-132-133).
Иначе говоря, и И.П.Павлов, и его американские поклонники полагали достойными своего ученого внимания предметы, принадлежащие исключительно к картезианской протяженной субстанции. И напротив, представители так называемой «понимающей» психологии удостаивали своего специфического «понимания» феномены сугубо ментальной природы, выражаясь языком Декарта – модусы мыслящей субстанции.
Понятно, что первые в лучшем случае могли претендовать на создание каузальной физиологии или так называемого бихевиоризма – науки о вершках поведения человека и животных, но ничего не могли, да и не хотели сказать о собственно психической жизни предметов своего высоконаучного постижения. Иначе говоря, в идеале они могли претендовать на создание сугубо каузальной и научной непсихологии. Вторые, напротив, стремились по одним им ведомым канонам создавать некаузальную и ненаучную психологию.
Очевидно, что та психология, которая, начиная с В. Вундта, хотела быть дисциплиной научной, могла существовать только в зазоре между этими двумя радикальными позициями, пытаясь предложить некий третий или синтетический путь. Столь же, очевидно, что попытка эта являла собой классический образец «попытки с негодными средствами», ибо предложенные Рене Декартом теоретические средства для решения антропологической проблемы, средства расчленяющие живое единство на две абстрактно противоположные субстанции и не могли привести ни к чему, кроме анекдотичной гипотезы о шишковидной железе, отклоняемой «свободной волей» на произвольный угол.
Впрочем, из психологов по-настоящему очевидно это было разве только для Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева, знавших философию вообще и философию Декарта и Спинозы в частности не в среднегимназическом объеме. Впрочем, и им еще предстояло конкретизировать это свое общетеоретическое знание, наполнить его научно-психологическим содержанием. Именно эту теоретическую задачу и пытается решать Л.С. Выготский в анализируемой нами статье «Психика, сознание, бессознательное».
Для Л.С. Выготского очевидна принципиальная неприемлемость картезианского подхода к решению проблемы двух противоположных субстанций, двух противоположных сущностей, таинственно сосуществующих в предмете нашей науки. Столь же очевидно для него, что принципиальное решение этой коллизии надо искать у материалиста Спинозы. Цепь причинности не может соединять два чуждых друг другу мира, мир мышления и мир протяженности, ибо эти два мира если и могут взаимодействовать друг с другом то только и исключительно в Боге, не в спинозовском Боге равном Природе, но в Боге вполне традиционно-религиозно понимаемом, средневековом Боге-чудотворце, ибо только иррациональным чудом может быть обосновано взаимодействие того, что в рамках рациональной логики взаимодействовать не может «по определению».
Л.С. Выготский ясно отдает себе отчет в том, что выход из тупика психофизической проблемы заключен в спинозовской идее единой субстанции, этой подлинной и единственной causa sui. И его нисколько не смущает, что данная позиция заключает в себе квинтэссенцию материализма. Он убежден, что признание субстанциальности психики, приписывание ей некоей особой сущностной природы, природы подчиненной неким особым ненатуральным, или сверхнатуральным закономерностям, отличным от закономерностей чувственно-природных, есть тупик, тупик идеалистический. Он пишет «Возможность психологии как самостоятельной науки до самого последнего времени ставилась в зависимость от признания психики самостоятельной сферой бытия. До сих пор еще широко распространено мнение, что содержание и предмет психологической науки составляют психические явления или процессы и что, следовательно, психология как самостоятельная наука возможна только на основе идеалистического философского допущения самостоятельности и изначальности духа наравне с материей» (Выготский 1982: I-133).
Самое забавное, что сегодня, 75 лет спустя после того, как были написаны эти строки, они звучат нисколько не менее актуально, так что мы можем без кавычек повторить за их автором: до сих пор еще широко распространено мнение, что… психология как самостоятельная наука возможна только на основе идеалистического философского допущения самостоятельности и изначальности духа... Так недавно один уважаемый московский ученый-психолог, считающий себя специалистом по методологии Л.С. Выготского, призывал коллег развернуть вектор своих теоретических поисков от материализма к идеализму на том серьезном основании, что Лев Семенович констатировал приверженность многих психологов к стихийному идеализму. Впрочем, едва ли не большинство наших российских коллег, из тех, разумеется, которых еще хоть в минимальной степени занимают теоретические проблемы психологии, сколько-нибудь нуждается в подобных советах, ибо давно стройными рядами совершило поворот в указанном направлении. Но и это еще пол беды. Куда катастрофичней для психологии как науки позиция тех, кто вообще считает бессмысленным и непродуктивным для психолога видеть различие материалистического и идеалистического, диалектического и метафизического, равно как всех прочих содержательных теоретических оппозиций.
Вернемся, однако, к теоретику, который не бежал от философско-логических трудностей. Итак, анализируя психофизическую проблему, как она виделась его современникам - психологам и физиологам, Л.С. Выготский констатирует, что картезианская мыслящая субстанция представляется им преимущественно в виде совокупности презентированного субъекту психического содержания, субъективной феноменологии. Критерием принадлежности к этому миру – миру психики - выступает исключительно субъективная переживаемость этих феноменов, так что все, что не сознается, не переживается и не должно, не может относиться к психическому.
Напротив, физический, «протяженный» мир представлялся в виде совокупности физиологических и поведенческих феноменов. Часть исследователей – тот же И.П. Павлов - не умея и не желая работать с поведением животного, делает акцент на физиологии, другие – бихевиористы - абстрагируются от физиологии, от живой телесности как таковой и концентрируют свое внимание исключительно на внешнем проявлении ее жизнедеятельности, на поведении.
Интересна позиция самого Л.С. Выготского в отношении к приведенному выше различению, интересна потому, что являет собой потрясающий пример движения, рождения мысли[5].
Начинает Л.С. Выготский с констатации противоречия в современном научно-психологическом знании, противоречия, которое с необходимостью приводит к отказу от научной психологии, ибо все, что согласно общему представлению научно, то непсихологично, а что психологично, то ненаучно. «Мы уже сказали, - резюмирует Л.С. Выготский, - что историческое развитие нашей науки завело эту проблему в безвыходный тупик, из которого нет иного выхода, кроме отказа от философского основания старой психологии» (Выготский 1982: I-136).
Он не ограничивается этим выводом, но указывает направление, в котором с его точки зрения надо искать выход из этой коллизии. «Только диалектический подход к этой проблеме открывает, что в самой постановке всех решительно проблем, связанных с психикой, сознанием и бессознательным, допускалась ошибка. Это были всегда ложно поставленные проблемы, а потому и неразрешимые» (Выготский 1982: I-136).
Это пока не решение проблемы, это всего лишь интуитивное ощущение, что коль скоро сложившееся, накопленное научное знание принимает форму противоречия, антиномии, то выход из него может быть только диалектический. Слова Л.С. Выготского о диалектике не магическая идеологическая формула, долженствующая подменить собой содержательно-научный анализ, но самый первый шаг этого анализа, анализа, основанного не на абстрактном эмпиризме, (да и бывает ли абстрактный, свободный от какого бы то ни было теоретического основания эмпиризм?) но на теоретической культуре, уходящей своими корнями к Платону и Аристотелю, Декарту и Спинозе, Гегелю и Марксу. Все это хорошо известно и жутко неловко повторять эти общие места. Однако сегодня, когда вчерашние пламенные поклонники «марксизма-ленинизма» в лакейском усердии повыбрасывали из библиотек книги К.Маркса, а немногочисленные и все далее редеющие ряды отечественных поклонников Л.С. Выготского считают нужным извиняться за его «увлечение марксизмом», приходится повторять банальные истины.
Между тем, Л.С. Выготский продолжает: «То, что совершенно непреодолимо для метафизического мышления, именно глубокое отличие психических процессов от физиологических, несводимость одних к другим, не является камнем преткновения для диалектической мысли, которая привыкла рассматривать процессы развития как процессы, с одной стороны, непрерывные, а с другой — сопровождающиеся скачками, возникновением новых качеств» (Выготский 1982: I-136).
Итак, там, где метафизическое мышление видит лишь от века существующие абстрактные, несводимые друг к другу противоположности, в нашем случае противоположность психического и физиологического процессов, мысль диалектическая видит процесс возникновения, становления этой противоположности. Новое, отличное от старого, а значит и противоположное ему качество возникает в результате диалектического скачка, приходящего на смену «непрерывному» количественному изменению. В данном случае речь очевидно идет о том, что по мере количественного усложнения нейрофизиологического процесса в какой-то момент происходит диалектический скачок, порождающий принципиально новое качество – процесс психический.
«Где-то, на какой-то определенной ступени развития животных, в развитии мозговых процессов произошло качественное изменение, которое, с одной стороны, было подготовлено всем предшествующим ходом развития, а с другой — являлось скачком в процессе развития, так как знаменовало собой возникновение нового качества, не сводимого механически к более простым явлениям. Если принять эту естественную историю психики, (то есть развитие мозговых процессов приводит к качественному скачку в результате которого однажды появляется психика – А.С.) то станет понятна и вторая мысль, заключающаяся в том, что психику следует рассматривать не как особые процессы, добавочно существующие поверх и помимо мозговых процессов, где-то над или между ними, а как субъективное выражение тех же самых процессов, как особую сторону, особую качественную характеристику высших функций мозга» (Выготский 1982: I-137). Итак психика возникает однажды как некоторое специфическое качество, сторона мозгового, нейрофизиологического процесса.
Иначе говоря, поначалу мозговые процессы развиваются как чисто механический, всецело объективный процесс, не порождая никакого психического или субъективного качества. Животные, обладающие таким простым мозгом, а, следовательно, и таким простым нейрофизиологическим процессом как функцией этого простого мозга, представляют собой следовательно чистые картезианские автоматы. Но вот, однажды, «на какой-то определенной ступени развития животных» их мозговой процесс вдруг обретает новое качество, несводимое «механически к более простым явлениям» и… вчерашний биоробот обретает психику (душу).
Если интерпретировать сказанное «в лоб», поверить Л.С. Выготскому в этом вопросе «на слово» и не увидеть в этом всего лишь промежуточную гипотезу, гипотезу противоречащую его основным теоретическим установкам, то Л.С. Выготского можно немедленно записывать в славные ряды когнитивистов, полагающих психику, «системным» свойством нейронной сети достаточно большого уровня сложности. Классический образец подобной логики можно найти, например, в любопытном материале американских исследователей Р. Пенроуза, С. Гамерова (Roger Penros & Stuart Hameroff) "Что такое мышление?"[6] «Согласно общепринятой точке зрения, (курсив мой –А.С.) мышление - это эмержентное свойство, возникающее в результате активности нейронной сети головного мозга, - утверждают авторы и продолжают, - эта активность подобна работе классического компьютера… мышление возникает как свойство вычислительной сложности нейронной сети».
Что ж, если приведенная нами мысль Л.С. Выготский стала сегодня общепринятой точкой зрения, то может быть зря мы к ней придираемся. Может лучше порадоваться тому обстоятельству, что наш отечественный психолог на 70 лет опередил мировой когнитивистский mainstream?
Не будем однако спешить с сомнительными комплиментами и попробуем разобраться в существе дела.
Начнем с того, что сам Л.С. Выготский более чем критически относился к идеям поклонников теории эмерджентной эволюции. Последнюю он определял как «новое идеалистическое учение», пытающееся «найти выход из тупика альтернативы- механицизм или витализм, в который упирается все современное естествознание. Эмерджентная эволюция исходит из допущения внезапных, якобы диалектических скачков в развитии, внезапного появления новых качеств, необъяснимого превращения одних качеств в другие» (Выготский 1984: 6-215). Заметим, что данное определение как нельзя более выразительно говорит о философско-теоретической квалификации автора. Л.С. Выготскому не только знакомо это новое в тот момент философское учение, но он, буквально в двух предложениях дает ему убийственно точную характеристику. Его ключевая мысль в отношении идеи эмердженции – разоблачение последней как пародии на диалектику. Фиксируя чисто внешнюю сторону диалектического процесса перехода количества в качество, констатируя сам факт скачка и указывая на внезапное появление, всплытие (сам термин эмерджентизм происходит от английского слова emerge – всплывать) нового качества, теоретик эмерджентист считает задачу выполненной. Действительно, а чего же еще? Ведь таинственный факт назван мудреным словом! Между тем подлинная диалектика, в отличие от ее модно-западного или идеологически-советского суррогата требует не только констатации факта скачка, но и его содержательного объяснения, понимания.
«Дух картезианского учения, - пишет Л.С. Выготский, - проявляет себя не только в механистических теориях, подобных теории Джемса, но и в новых теориях, пытающихся преодолеть несовершенство прежних гипотез с помощью другой стороны того же самого учения, которое породило идеи их противников. Они не подозревают при этом, что изгоняют дьявола именем Вельзевула и не только не выходят за пределы того замкнутого круга, в котором вращается вся современная психология эмоций, но еще теснее замыкают этот круг, пытаясь полностью реализовать старинное картезианское учение. Их заслуга состоит в том, что они с полным сознанием борются за торжество картезианских принципов современной психологии. Они только дополняют несколько старомодного Декарта наисовременнейшей теорией эмерджентной эволюции. Но и она, как мы увидим дальше, не только не чужда духу картезианского учения, но непосредственно связана с ним, что, впрочем, признает и сам Принц[7].
Мы помним, что точно таков же был метод исследования, примененный Декартом к познанию природы страстей. Он сперва рассматривает человека как бездушный автомат и исследует механизм страстей, как он действует в этой сложной машине, совершенно безотносительно к ее сознанию. Этим Декарт предвосхитил теорию Джемса. Затем он присоединяет к автомату душу, заранее предопределяя, что ее восприятия, возникающие из автоматической деятельности бездушного механизма, не могут быть не чем иным, как эпифеноменами, и вводя спиритуалистический принцип обратного действия души на телесный автомат, устанавливая, таким образом, механистическое взаимодействие между душой и телом; этим он предвосхитил теорию Принца. Нетрудно видеть, что предполагаемая Принцем эмердженция психического из физического и обратное превращение духовной энергии в телесную ежеминутно совершаются в том чудовищном агрегате, составленном из чистого духа и сложной машины, который сконструирован Декартом в его теории. Он только не называл этого ежеминутно происходящего чуда эмердженцией и откровенно сознавал, что оно представляет собой самый темный, неясный и трудный пункт его учения.
Все развивается последовательно и логично в этой дуалистической теории, пока дух и тело рассматриваются порознь. Они для Декарта две субстанции, исключающие друг друга. Но как только встает проблема соединения обеих субстанций в человеческом существе, и притом в том пункте, где двойственность человеческой природы сказывается непосредственным образом, - в страсти, мрак необъяснимости охватывает проникнутое светом разума стройное рационалистическое учение. На этот пункт в учении Декарта нападал, как мы помним, в первую очередь Спиноза, называя гипотезу о соединении души и тела в шишковидной железе темной, «темнее всякого темного свойства... Весьма было бы желательно, - говорил Спиноза, - чтобы он объяснил эту связь через ее ближайшую причину. Но Декарт признал душу настолько отличной от тела, что не мог показать никакой единичной причины ни для этой связи, ни для самой души, и ему пришлось прибегнуть к причине всей вселенной, т. е. к богу». В этом и заключается тот теологический принцип в объяснении страстей, о котором говорил Дюма.
Сам Декарт на вопрос принцессы Елизаветы, как объясняется соединение души и тела, сослался на непознаваемость этого соединения. Но разве не то же самое имеет в виду и эмерджентная эволюция? Декарт ссылается на непознаваемое чудо. Новая теория ссылается на необъяснимую эмердженцию. За 300 лет изменилось только слово, но не идея. Но что слово? Звук пустой» (Выготский 1984: 6-217-218).
Мы сознательно привели столь большой фрагмент текста Л.С. Выготского, чтобы дать ему максимально полно высказаться по обсуждаемому нами вопросу. Ибо эти аргументы рикошетом задевают и его собственную, сформулированную ранее позицию. Трудность в теоретическом анализе его текста здесь, как и в множестве других случаев, заключается в том, что мысль Л.С. Выготского не стояла на месте, как и в том, что последнего слова он далеко не сказал.
Попробуем взглянуть на сказанное Л.С. Выготским в 1930 году с позиции его же текста, датируемого уже 1931-34 гг. и шире, применить к анализу его текстов логический способ критики, то есть обратиться к наиболее развитым теоретическим средствам, хотя бы последние и были сформулированы много лет спустя после смерти автора критикуемого текста в трудах Э.В. Ильенкова. Подобный прием мы считаем не просто приемлемым, но и единственно возможным для продуктивного анализа теоретического наследия Л.С. Выготского, как и любого иного мыслителя подобного масштаба. Единственное условие, условие sine qua non, которое необходимо соблюсти, дабы не обессмыслить подобный подход, заключается в том, что теоретически-мировоззренческая позиция, с высоты которой мы обращаемся к анализу исторического текста, должна иметь ту же направленность, тот же вектор. Иначе, вместо анализа, вместо содержательной критики и развития мы получим профанацию. Анализировать идеи спнозиста-диалектика Л.С. Выготского можно и нужно, опираясь на идеи спнозиста-диалектика Э.В. Ильенкова. Этот ход может и должен быть продуктивен. И, напротив, смешной нелепостью является попытка осмысления и «развития» Л.С. Выготского, апеллирующая, к идеям замечательного философа, но нематериалиста и неспинозиста М.К. Мамардашвили.
Итак, в статье «Психика, сознание, бессознательное» речь идет о происхождении психики и о сущности последней. Л.С. Выготский как последовательный и принципиальный материалист естественно отвергает субстанциальность психики и вслед за Спинозой пытается истолковать мышление (психику) как атрибутивную характеристику, как неотъемлемую сторону или свойство мыслящего (наделенного психикой) тела. Здесь он абсолютно точен, ибо соответствующая принципиальная идея Спинозы просто не имеет рациональных альтернатив. Причем, когда речь идет о всей Природе или Субстанции, то здесь не возникает существенных затруднений. Л.С. Выготский, разумеется, разделяет взгляд Спинозы на то, что мыслит самое себя сама же материальная природа, а не некая вне- или надприродная сила или сущность. Теоретическая трудность, причем трудность архисерьезная возникает тогда, когда приходит черед указать не на всеобщее мышление, не на мышление Бога, а на любой частный модус такового. Иначе говоря трудность начинается тогда, когда теоретик должен ответить на вопрос - в чем сущность мышления (психики) не Природы или Субстанции, а этого отдельного человека, или даже не человека, а любого животного (а мы помним, что Спиноза в отличие от Декарта не считал животных бездушными автоматами).
Отвечая на этот принципиальный вопрос Л.С. Выготский пытается рассуждать в строгом соответствии с логикой Спинозы, памятуя, что теоретик-спинозистдолжен видеть обе стороны медали. Мышление (психика) не существует само по себе, абстрактно. В атрибуте протяжения ему должно соответствовать некоторое тело, тело мыслящее. Иначе говоря, должно существовать такое тело пространственно определенному действию которого всегда должен соответствовать некий акт мышления (психический акт), составляющий его – телесного действия - неотъемлемую «обратную сторону», ибо «…душа и тело составляют одну и ту же вещь, в одном случае представляемую под атрибутом мышления, в другом – под атрибутом протяжения» (Спиноза 1957: I-458). Подчеркнем – именно действию а не покоящемуся состоянию, ибо бездействующее или абстрактно пассивное тело пребывает либо вне актуальных причинных отношений, либо цепи причинности, замыкающиеся через него выражают сущность иного, активного тела.
Не все тела в равной степени наделены способностью к активному действию, соответственно и не все тела в равной степени одушевлены[8]. Понятно, что покоящийся камень, согласно Спинозе одушевлен в исчезающе малой степени по сравнению с животным, а это последнее по сравнению с человеком, ибо «…чем какое-либо тело способнее других к большему числу одновременных действий или страданий, тем душа его способнее других к одновременному восприятию большего числа вещей; и чем более действия какого-либо тела зависят только от него самого и чем менее другие тела принимают участие в его действия, тем способнее его душа к отчетливому пониманию» (Спиноза 1957: I-414-415).
Остается понять, что Спиноза понимает под действием мыслящего, одушевленного тела. Является ли таким действием его нейрофизиологическая активность (на языке XVII века - движение животных духов в его организме) или речь принципиально идет о предметной активности тела?
Не станем повторять уничтожающе иронические высказывания великого нидерландского материалиста о животных духах и шишковидной железе – этих символах умозрительной картезианской психофизиологии. Обратимся к тексту Спинозы и ближайшим образом к шестому постулату второй части Этики. Последний гласит: «Человеческое тело может весьма многими способами двигать и располагать внешние тела» (Спиноза 1957: I-420). Уже из этого определения очевидно, что Спинозу интересует не внутренняя физиологическая кухня, без которой, разумеется невозможно никакое действие живого мыслящего тела, а причинные отношения, в которые мыслящее тело человека способно вступать с миром внешних тел.
Та же мысль прослеживается в Теореме 14. «Человеческая душа способна к восприятию весьма многого и тем способнее, чем в большее число различных состояний может приходить ее тело» (Спиноза 1957: I-420).
Может быть, речь идет о физиологических, или нейрофизиологических состояниях?
Вовсе нет! Это совершенно недвусмысленно следует из авторского «доказательства» данной теоремы. «Человеческое тело (по пост. 3 и 6) подвергается весьма многим действиям со стороны внешних тел и в свою очередь способно весьма многими способами действовать на внешние тела. А так как все, что имеет место в человеческом теле, душа человеческая (по т. 12) должна воспринимать, то отсюда следует, что человеческая душа способна к восприятию весьма многого и тем способнее и т. д.; что и требовалось доказать.» (Спиноза 1957: I-420)
Ясно, что, говоря о состояниях, в которые может приходить тело, Спиноза ведет речь о предметных, а не о физиологических состояниях. Между формой предмета, так или иначе отпечатавшейся в живой органике человека и тем более активно построенной самим субъектом в акте воображения и физиологическим рисунком, обеспечившим этот акт, не существует и не может существовать взаимно однозначного соответствия. Эта интуитивно очевидная мысль была в ХХ веке строго-экспериментально доказана Н.А. Бернштейном, показавшим как бесконечно разнятся физиологические характеристики одного и того же предметного действия. Но тогда из этого следует, что некоторому определенному в атрибуте мышления психическому образу в атрибуте протяжения должно соответствовать не некое бесконечное множество физиологических или нейрофизиологических состояний, но вполне определенное предметное состояние, то есть действие, состоящее не в условно-знаковом, то в есть произвольном, то есть в никаком отношении к предмету, но в отношении содержательно-предметном, в отношении активного пластического уподобления последнему. А это значит, что противопоставляя мышлению или психике физиологию мозга мы не только не приближаемся к Спинозовскому пониманию тождества атрибутов мышления и протяжения в единой субстанции, но благополучно остаемся в картезианском тупике.
Это видно уже в попытке Л.С. Выготского вывести психику как новое качество из развивающейся физиологии. Уже здесь очевидно, что исходным пунктом в рассуждении Л.С. Выготскому приходится брать голую картезианскую протяженную субстанцию, в которой нет места мышлению, а затем мышление (психика) вдруг появляется на сцене в результате некоторого чудесного акта, который нисколько не становится более рациональным оттого, что он называет его актом «развития», а не справедливо высмеянной им «эмердженции». Ибо, что слово? Даже если это слово – «развитие»? Звук пустой!
Итак, выход из тупика картезианского дуализма Л.С. Выготский ищет на пути спинозистского понимания единства мышления и протяженности как противоположных атрибутов единой и единственной субстанции. «Неразрешимость психической проблемы для старой психологии и заключалась в значительной степени в том, что из-за идеалистического подхода к ней психическое вырывалось из того целостного процесса (здесь и далее в настоящем фрагменте курсив мой – А.С.), часть которого оно составляет, и ему приписывалась роль самостоятельного процесса, существующего наряду и помимо процессов физиологических.
Напротив, признание единства этого психофизиологического процесса приводит нас с необходимостью к совершенно новому методологическому требованию: мы должны изучать не отдельные, вырванные из единства психические и физиологические процессы, которые при этом становятся совершенно непонятными для нас; мы должны брать целый процесс, который характеризуется со стороны субъективной и объективной одновременно». (Выготский 1982: I-137)
Что же это за целостный процесс, который имеет объективную и субъективную стороны?
На этот вопрос Л.С. Выготский предлагает по-существу не один, а два принципиально различных ответа. Мыслящий мозг, мозговая деятельность, мозговая психофизиология. Это - первый ответ.
«Диалектическая психология исходит раньше всего из единства психических и физиологических процессов (очевидно, что речь здесь идет о процессах нейрофизиологических – А.С). Для диалектической психологии психика не является по выражению Спинозы, чем-то лежащим по ту сторону природы или государством в государстве, она является частью самой природы, непосредственно связанной с функциями высшей организованной материи… - с последним мы были бы готовы согласиться на все сто процентов, если бы Л.С. Выготский не добавил, - …нашего головного мозга.» (Выготский 1982: I-137)
Во-первых, мыслящий головной мозг, взятый в абстракции от цельного деятельного организма, есть сам по себе чистая абстракция, могущая существовать лишь в воспаленном воображении исследователя, или писателя-фантаста, но никак не в материальной реальности. Далее, мозговая деятельность никак не может претендовать на роль целостного процесса. О целостности мозгового процесса, можно было бы говорить только в том случае, если бы он содержал все свои действующие причины в себе самом, тогда как мозговой процесс - далеко не causa sui. Мозговой процесс есть функция предметной деятельности живого организма, а, значит, до целостности мозговому процессу не хватает такой малости как живого тела, и предметов, «через которые оно беспрерывно как бы возрождается» (Спиноза 1957: I-420). Наконец, определение «высшая организованная материя» никак не может быть отнесен к абстрактному мозгу, при всех его замечательных вычислительных возможностях, ибо как таковой, в абстракции от а) живого органического тела и б) тела неорганического, то есть предметного тела культуры, абстрактный мозг ни мыслить, ни чувствовать не может. Предполагать иное, значило бы впадать в курьезный «процессорный фетишизм», усматривающий в голом процессоре некую таинственную потенцию или силу - своего рода vis mechanica, могущую реализоваться, даже если весь остальной компьютер забыли завезти на склад.
Между тем, дело не ограничивается перечисленными трудностями. Определив единое основание психического и физического как живущий психофизиологической жизнью мозг, Л.С. Выготский немедленно сталкивается с нешуточной проблемой, которая состоит в том, что при таком понимании спинозовского тождества исчезает ни много ни мало – предмет собственно психологического исследования.
«…признание единства этого психофизиологического процесса, приводит нас с необходимостью к совершенно новому методологическому требованию: мы должны изучать не отдельные, вырванные из единства психические и физиологические процессы, которые при этом становятся совершенно непонятными для нас; мы должны брать целый процесс, который характеризуется со стороны субъективной и объективной одновременно». Между тем вся трудность как раз и состоит в том, что физиологи и психологи интроспекционисты худо-бедно представляли как изучать отдельно физиологию и отдельно психику, а вот как ухватить «единый психофизиологический процесс» и что это такой за зверь, вот что остается загадкой.
Л.С. Выготский рассматривает эту проблему со всех сторон, отметая одно за другим очевидные, но непригодные решения. Во-первых, он отметает вульгарно-материалистическое представление, просто и без затей отождествляющее психику с физиологией. «В результате, - резюмирует Л.С. Выготский, - проблема психики уничтожается вовсе, разница между высшим психическим поведением и допсихическими формами приспособления стирается». Здесь он правда аргументирует уже не от физиологии, но от поведения, но при этом опять наступает на картезианские грабли, апеллируя к неким «допсихическими» формам приспособления»[9] - надо ли пояснять, что, если существуют некоторые «допсихические формы приспособления», то значит, если не все, то по крайней мере некоторые из животных суть чистые картезианские автоматы.
Не приемлет Л.С. Выготский и махистское отождествление, в котором «психическое переживание, например ощущение, отождествляется с соответствующим ему объективным предметом» (Выготский 1982: I-137).
Далее он категорически отвергает «мысль о том, что диалектическая психология должна складываться из чисто физиологического изучения условных рефлексов и интроспективного анализа, которые механически объединяются друг с другом. Ничего более антидиалектического и представить себе нельзя» (Выготский 1982: I-138-139).
Наконец, и это, пожалуй, самое любопытное, Л.С Выготский еще раз наступает на те же самые картезианские грабли, защищая психологию от психофизиологии. Действительно, если подлинный предмет психологического исследования это не абстрактные психика и физиология, а «единый психофизиологический процесс», то означает ли это, что на смену науки, называющей себя психологией, должна прийти психофизиология или физиологическая психология?
Л.С. Выготский решительно не согласен с таким казалось бы логично вытекающим из его же спинозистских рассуждений выводом. Он пишет: «Нам кажется: главный повод заключается в том, что, называя эти процессы психологическими, мы исходим из чисто методологического определения их, мы имеем в виду процессы, изучаемые психологией, и этим подчеркиваем возможность и необходимость единого и целостного предмета психологии как науки».
Формально, в сказанном нет никакой логики - сплошные эмоции. Ну не хочет Лев Семенович расставаться с любезной его сердцу психологией, вопреки тому, что сам только что доказал, что подлинно научной может быть лишь психофизиология головного мозга. Не спасает и ссылка на пресловутую «методологию», ибо Выготский-теоретик только что эту самую психологию не только похоронил, но и забил в ее могилу осиновый кол психофизиологии. Несколькими строками ранее он, апеллируя к Спинозе, убедительно доказывал, что пришла пора отбросить картезианские предрассудки старой психологии и впредь изучать не субъективные феномены и физиологические процессы в их абстрактной оторванности друг от друга, а единые психофизиологические процессы, а теперь он говорит, что нельзя ограничиться психофизиологией, а надо заниматься все же психологией как таковой. Здесь у него, мягко говоря, некоторая неувязка, ибо что есть та новая психология, которую он предлагает строить, в отличие от справедливо раскритикованной им старой субъективной психологии, он так и не разъясняет.
Самое любопытное, что сам Л.С. Выготский этого противоречия либо не видит, либо не хочет видеть и вопреки всякой очевидности продолжает настаивать на своем. Впрочем, любопытно и то, что мы как психологи с удовольствием принимаем эту его нелогичность, ибо интуитивно догадываемся, что в психологии, понимаемой сколь угодно субъективистски, собственно психологии, души, душевных переживаний бесконечно больше, чем в самой что ни на есть научной физиологии, пусть даже с приставкой нейро- или психо-. Но какой вывод следует из этого? Что все спинозистские рассуждения Л.С. Выготского были всего лишь данью его личному философскому вкусу, а следовательно с провозглашением эпохи новой, «диалектической психологии» Лев Семенович несколько поторопился? Что для психологической науки, науки как таковой, которая видит свою задачу не только в красивых и по возможности непротиворечивых рассуждениях, но и в том, чтобы составлять основу для широкой психологической практики, что Декарт, что Спиноза с их ископаемой логикой и терминологией, со всеми их субстанциями, атрибутами и психофизическими проблемами, мягко говоря, не нужны? И что сам Л.С. Выготский, скорее всего догадывался об этом и пользовался термином диалектическая психология исключительно в силу политической конъюнктуры?
Л.С. Выготский отвечает на все эти вопросы, отвечает, как всегда гениально опережая время на многие десятилетия. Впрочем, прежде чем перейти к содержанию его второго ответа, задержимся буквально на пару слов еще на одном парадоксе, вытекающем из первого, «нейрофизиологического решения» психофизической проблемы. Отбив, им же самим обоснованную претензию психофизиологии на психологическую корону, Лев Семенович милосердно наделяет ее вдовьим наделом, своего рода опричниной, обосновывая право на существование психологической физиологии или физиологической психологии необходимостью установления «связей и зависимостей, существующих между одним и другим родом явлений» (Выготский 1982: I-138), то есть между все теми же нейрофизиологией и психикой. Между тем психофизиологи поступают крайне опрометчиво, ссылаясь на это авторитетное мнение[10], ибо само это мнение всего лишь один исчезающий момент в потоке мысли гениального теоретика, момент, схваченный в потоке, в движении, вне которого он лишен всякого смысла. На секунду задумаемся, если верна теоретическаяпозиция, занятая Л.С. Выготским, и сторонами в спинозовском единстве выступает мышление (психика) и физиология, то между ними можетбыть «связей и зависимостей» не больше, чем между фасом и профилем умствующего лица. Допускать обратное, значит благополучно возвратиться к мифологии психо-физического взаимодействия. Тут уж надо выбирать что-то одно, -либо Л.С. Выготский прав в своем спинозизме, и тогда между психикой и физиологией нет и быть не может никаких причинных отношений, никаких связей и зависимостей, либо его спинозовские рассуждения неверны, но тогда неверны и все выводы, основанные на них, тогда нелепо ссылаться на ошибочное мнение Л.С. Выготского, изложенноев этой статье.
По существу предлагая психофизиологам заниматься связями и зависимостями между двумя различными родами явлений, между психикой и нейрофизиологий, Л.С. Выготский перечеркивает, отвергает свой же первый вариант решения психофизической проблемы, ибо, если есть какое-то содержательное отношение между явлением А и явлением Б, то их никак нельзя мыслить в качестве атрибутов единой субстанции, качеств одного и того же, единого субъекта.
Итак, где же, наконец, второй ответ? А там же, где и первый, в тексте статьи-размышления. Но начнем мы опять не с ответа, а с проклятых вопросов, которыми вслед за «старой психологией» задается Л.С. Выготский. «Как известно, две основные проблемы до сих пор еще не разрешены для старой психологии проблема биологического значения психики и выяснения условий при которых мозговая деятельность начинает сопровождаться психологическими явлениями. Такие антиподы, как объективист В. М. Бехтерев и субъективист К. Бюлер, одинаково признают что мы ничего не знаем о биологической функция психики, но что нельзя допустить, будто природа создает лишние приспособления и что, раз психика возникла в процессе эволюции, она выполняет какую-то, хотя нам еще совершенно непонятную, функцию(Выготский 1982: I-139).»
В этой постановке вопроса уже засветился принципиально иной, принципиально новый ответ. Вернее та часть вопроса, в которой вопрошается об условиях «при которых мозговая деятельность начинает сопровождаться (курсив мой – А.С.) психологическими явлениями» уже содержит в себе ответ и это ответ не Л.С. Выготского, а завзятого параллелиста. А вот вопрос о биологическом значении психики, подкрепленный более чем основательными соображениями К.Бюлера и М.Бехтерева – это уже принципиально новый поворот темы. Начнем с того, что он просто несовместим с пониманием психики как свойства или функции мозга. Действительно, если психика, понимаемая как мир субъективных переживаний, чувствований, есть функция нейрофизиологии, появляющаяся к тому же лишь на определенном, продвинутом этапе эволюции животных, то объяснить для чего появляется это чудо, в чем его биологический смысл принципиально невозможно. Здесь одно из двух, либо психика может как-то влиять на мозговые процессы, включаясь в единую причинную цепь с нейрофизиологическими процессами, как-то их модифицировать, и тогда она нужна, в ней есть некоторый деловой смысл для животного. Но из такого допущения в свою очередь следует очень неприятная альтернатива, встав на позицию психофизического взаимодействия, мы будем вынуждены либо признать психику разновидностью все той же физиологии, вполне чувственно-материальным физиологическим процессом, пусть и особого рода, и тогда мы хотя бы останемся в пределах здравого смысла, пусть и сильно отдающего метафизикой XVIII века, либо мы должны будем повторять за Экклзом его бредовые измышления о душе, локализованной в синаптических щелях, призванных в ХХ веке заменить картезианскую шишковидную железу. Либо психика на нейрофизиологию мозга никак влиять не может, и тогда зачем ее породила природа? Как бесполезное свойство? Как эпифеномен?
Л.С. Выготский пытается найти верный ответ, критикуя неверную постановку вопроса старой психологией. Это его излюбленный и глубоко диалектический ход. (Сравни аналогичный прием Спинозы в критике Декарта.) Он пишет: «Мы думаем, что неразрешимость этих проблем заключается уже в их ложной постановке. Нелепо раньше вырвать известное качество из целостного процесса и затем спрашивать о функции этого качества как если бы оно существовало само по себе, совершенно независимо от того целостного процесса, качеством которого оно является» (Выготский 1982: I-139). Н что есть тот целостный процесс, качеством которого является психика? Если мозговая нейрофизиология, то впереди опять тупик…
Нет, ответ Л.С. Выготского, принципиально иной. Впервые и уже не мимоходом, а как выстраданный теоретический результат, в качестве целостного субъекта, одновременно и пространственно и психически определенного, Л.С. Выготский называет не физиологический процесс, не протекающий под черепной коробкой, а вполне «внешний» процесс приспособительного поведения животных.
Вот как это рассуждения выглядит у автора: «Самое предположение, что между психическими и мозговыми процессами может существовать взаимоотношение, уже наперед предполагает представление о психике как об особой механической силе, которая, по мнению одних, может действовать на мозговые процессы, по мнению других, может протекать только параллельно им. Как в учении о параллелизме, так и о взаимодействии содержится эта ложная предпосылка; только монистический взгляд на психику позволяет поставить вопрос о биологическом значении психики совершенно иначе.
Повторяем еще раз: нельзя оторвав психику от тех процессов, неотъемлемую часть которых она составляет, спрашивать, для чего она нужна, какую роль в общем процессе жизни она выполняет. На деле существует психический процесс внутри сложного целого, внутри единого процесса поведения, и, если мы хотим разгадать биологическую функцию психики, надо поставить вопрос об этом процессе в целом: какую функцию в приспособлении выполняют эти формы поведения?»
Чтобы понять величайшее значение для психологии этих нескольких строк, попробуем осмыслить их в той самой спинозистской логике, в которой построено все остальное рассуждение Л.С. Выготского. Итак, если первый, фактически отвергнутый ответ провозглашал субъектом спинозовского единства, стороны которого суть психика и нейрофизиология, «мыслящий» мозг, то спинозовский субъект второго ответа это живое, функционирующее в природной среде и приспосабливающееся к ней, действующее в соответствии с формой и расположением внешних природных тел, тех тел, через которых оно постоянно как бы возрождается, мыслящее тело животного. Соответственно сторонами этого единства выступают «внешний» чувственный процесс поведения в атрибуте протяжения и «психологический процесс» в атрибуте мышления.
«Иначе говоря, надо спрашивать о биологическом значении не психических, а психологических процессов, и тогда неразрешимая проблема психики, которая с одной стороны не может явиться эпифеноменом, лишним придатком, а с другой - не может ни на йоту сдвинуть ни один мозговой атом, - эта проблема оказывается разрешимой» (Выготский 1982: I-140).
Итак, нелепо спрашивать о биологическом смысле субъективных чувствований как таковых, абстрактной феноменальной «психики». Только умствующему человеку, который сыт и защищен от любых (природных) неожиданностей, может придти в голову идея о первичности, субстанциальности и самоценности субъективных чувствований как таковых. Для животного, живого дикого животного в натуральной, природной среде субъективные чувствовования имеют прежде всего практический смысл в контексте его внешней, предметной деятельности, его «приспособительного поведения». То же самое можно сказать и о практически деятельном, а не всего лишь абстрактно умствующем человеке и уж тем более о человечестве в целом. В природе не существует абстрактного, переживающего аутические грезы бестелесного «мозга», а есть наделенные тем или иным мозгом, или вовсе обходящиеся без него живые существа, существа практически, чувственно деятельные, ибо недеятельное, покойное тело есть синоним трупа, а значит тела, вооруженные чувственными «внешними» органами своей деятельности – желудками, зубами, лапами, хвостами, крыльями. Голый, не наделенный хоть каким-нибудь телом, но при этом деловито функционирующий, что-то вычисляющиймозг есть продукт извращенного воображения фантаста, есть нечто эстетически невозможное, как невозможен для сколько-нибудь культурно развитого воображения «нейрон сознания», «синапс совести» или «микротрубочка ума». Но тогда столь же невозможно примыслить этому протяженному фантастическому уродцу в атрибуте мышления вторую, субъективную сторону, чтобы она не была таким же уродливым фантазмом, как и его протяженная alter ego.
Ровно это и утверждает Л.С. Выготский, призывая искать ключ к разгадке проклятых психологических вопросов«внутри единого процесса поведения» (Выготский 1982: I-140), поведения, обеспечивающего биологическую задачу приспособления к реальности.
«Повторяем еще раз, - настаивает он, - нельзя оторвав психику от тех процессов, неотъемлемую часть которых она составляет, спрашивать, для чего она нужна, какую роль в общем процессе жизни она выполняет. На деле существует психический процесс внутри сложного целого, внутри единого процесса поведения, и, если мы хотим разгадать биологическую функцию психики, надо поставить вопрос об этом процессе в целом: какую функцию в приспособлении выполняют эти формы поведения? Иначе говоря, надо спрашивать о биологическом значении не психических, а психологических процессов» (Выготский 1982: I-140).
Термин «психологический процесс» нужен Л.С. Выготскому дабы отмежеваться от субъективистского, феноменологического «психического процесса», процесса, существующего только в воображении психолога-субъективиста. Биологического значения так понимаемый психический процесс иметь не может в принципе, оттого его и не могли найти лучшие умы, бившиеся над этой проблемой с середины XVII века. Как не существует в природе абстрактный «мыслящий мозг», так не существует и абстрактный психический процесс, процесс никак не связанный с миром вне мыслящего, «переживающего» субъекта. Иное дело процесс психологический, который есть ни что иное, как субъективная сторона, субъективная проекция живого, а значит деятельного субъекта – животного или человека. Также как наделенное или не наделенное мозгом деятельное тело субъекта, включающее и его естественные органы (innata instrumentis) и органы культурные (прежде всего орудия труда), если речь идет о человеке, есть его проекция в атрибут протяженности.
Здесь, по-существу, Л.С. Выготский сталкивается с той же проблемой «элемента» и «единицы», к которой он неоднократно возвращается в разных своих текстах. Где предел деления, предел абстракции, за которой предмет исследования утрачивает свою специфику?
«Все своеобразие диалектической психологии в том и заключается, - говорит Л.С. Выготский, - что она пытается совершенно по-новому определить предмет своего изучения. Это есть целостный процесс поведения, который тем и характерен, что имеет свою психическую и свою физиологическую стороны, но психология изучает его именно как единый и целостный процесс, только так стараясь найти выход из создавшегося тупика» (Выготский 1982: I-139). Иначе говоря, интересующая психологию целостность есть приспособительное поведение, которое, в свою очередь имеет два атрибутивных свойства: быть физическим, протяженнно-чувственным действием чувственного физического тела в чувственном же мире и быть актом мышления, психики или «психологическим актом».
В приведенной формулировке у Л.С. Выготского остается одна принципиальная неточность, неточность с точки зрения его же собственной логики. «Целостный процесс поведения» не может иметь своей чувственно-протяженной стороной физиологию, ибо приспосабливается к обстоятельствам внешнего мира не физиология как таковая, а целый организм. «Физиология» не ведет себя, но обеспечивает возможность поведения. В противном случае нет никаких оснований не объявить «стороной» деятельного субъекта биохимическиеили квантово-механические процессы. Иначе говоря в отношении к приспособительному поведению физиология выступает как типичный «элемент» в отношении к «единице».
Открытие, сделанное Л.С. Выготским было столь велико, что он сам не успел толком осознать его, сделать из него далеко идущие теоретические выводы и довести до конца собственные рассуждения. Эта, как и многие другие его идеи, была щедрой рукой оставлена потомкам, едва намеченной. Межу тем направление его мысли было задано совершенно точно. Он писал: «Нельзя спрашивать, при каких условиях нервный процесс начинает сопровождаться психическим, потому что нервные процессы вообще не сопровождаются психическими, а психические составляют часть более сложного целого процесса, в котором тоже как органическая часть входит нервный процесс.
В.М. Бехтерев (1926), например, предполагал, что когда нервный ток, распространяясь в мозгу, наталкивается на препятствие, встречает затруднение, тогда только и начинает работать сознание. На самом деле нужно спрашивать иначе, именно: при каких условиях возникают те сложные процессы, которые характеризуются наличием в них психической стороны?
Надо искать, таким образом, определенных условий в нервной системе и в поведении в целом для возникновения психологических целостных процессов, а не внутри данных нервных процессов — для возникновения в них психических процессов» (Выготский 1982: I-142).
Крайне любопытна ссылка на В.М. Бехтерева! Формально, с точки зрения развиваемой Л.С. Выготским логики сказанное В.М. Бехтервым – абсурд. «Нервный ток» не субъект действия, а потому он и не может ни на что «наталкиваться», даже, если бы в мозгу было нечто такое обо что наш «нервный» герой мог споткнуться. Но, с другой стороны было бы до крайности нерасчетливо просто отбросить размышление В.М. Бехтерева, как абстрактную глупость. Ибо не глупость это вовсе, а глубочайшая догадка. Психика (сознание) действительно начинается там и тогда, где и когда спонтанное импульсивное действие наталкивается на препятствие, внешнее ограничение. Соответственно условия, в которых возникает, если и не психика, то отдельный психический акт надо искать «не внутри данных нервных процессов», а «в нервной системе и в поведении в целом». Первая половина формулы, апеллирующая к нервной системе- дань не до конца преодоленному прошлому нашей науки, ее вторая часть, апеллирующая к целостному поведению – образ ее потребного будущего.
Л.С. Выготский абсолютно точен в главном – в спинозовской логике тождества двух атрибутов в единой субстанции. О том насколько велико это его теоретическое открытие можно судить хотя бы потому, что оно остается по-настоящему не понятым и поныне. Единственным теоретиком, который пришел к аналогичным выводам был Э.В. Ильенков, изложивший свое понимание Спинозы в 1974 году в «Диалектической логике». Вообще, надо сказать, что два гениальных мыслителя Л.С. Выготский и Э.В. Ильенков абсолютно сходятся в их мировоззренческих позициях, оба были материалистами и диалектиками, оба огромное значение придавали теоретическим идеям Б.Спинозы. Вплоть до того, что оба оставили после себя незавершенные рукописи, целиком посвященные этому величайшему философу.
Между тем та же проблема была в центре размышлений и А.Н. Леонтьева.
А.Н. Леонтьев, как и Л.С. Выготский вынужден исходить из повсеместно распространенного представления о психике как функции мозга. «…развитие деятельности, говорит он в своем выступлении на «домашней дискуссии 1969 года», -необходимо приводит к возникновению психического отражения реальности в ходе эволюции, и этот тезис не нуждается в комментировании. Это совершенно банальное положение, говорящее примерно о том, что цитируется в таком виде: «Жизнь рождает мозг. В мозгу человека отражается природа…» и т.д., т.е. жизнь порождает отражение.» (Леонтьев А.Н. 2004: 304)
В приведенных словах очевидно глубокая мысль о связи жизни и психики (отражения) мирно сосуществует со столь же очевидной иллюзией об отражении природы «в мозгу». Последняя, настолько глубоко укоренилась в теоретической культуре, что не только не вызывает возражений, но и кажется «банальной». Между тем, банальной эта иллюзия стала не так уж давно. В 1846 году Людвиг Фейербах считал уместным доказывать, что мозг есть внутренний орган мысли. Отталкиваясь от того же спинозовского хода мысли, Л. Фейербах видит в мыслящем мозге тот субъект, который в атрибуте мышления есть акт мысли, а в атрибуте протяжения есть чувственный физиологический процесс. Вот как эта мысль выражена самим автором в работе под характерным названием «Против дуализма тела и души, плоти и духа»: «из того, что мышление для меня не мозговой акт, а акт, отличный и независимый от мозга, не следует, что и само по себе оно не мозговой акт. Нет! Напротив: что для меня, или субъективно, есть чисто духовный, нематериальный, нечувственный акт, то само по себе или объективно, есть материальный, чувственный акт»(Фейербах 1955: 1-213-214).
Фейербах не ограничивается этим рассуждением и продолжает развивать мыль о мозге, как органе мысли, противопоставляя его другим органам нашего тела. При этом он не замечает, что доказывает строго обратное желаемому. «Желудок, который у меня то полон, то пуст, сердце, биение которого я слышу и чувствую, голову как объект внешних чувств – короче, свое тело я воспринимаю только посредством его самого, поэтому он для меня, по крайней мере непосредственно, уже не нечто объективное, от меня отличное. Этой неощутимостью и непредметностью мозгового акта объясняются и психологическое идолопоклонство древних народов и всех необразованных людей, которые помещают «душу, дух» вместо мозгового акта в сердцебиение или в акт дыхания» (Фейербах 1955: 1-214).
Здесь в невольное «мозговое» идолопоклонство впадает сам Л.Фейербах, ибо и бьющееся сердце, и переваривающий пищу, перестальтирующий желудок, и вздымаемая дыханием грудь есть куда более непосредственное выражение жизни, а значит и психики живого существа, чем технически обеспечивающий координацию их активностей вычисляющий мозг. Активность этих органов субстанциальна, а активность мозга нет. И в этом смысле интуиция «древних» и «необразованный» людей куда точнее интуиции просвещенного теоретика – человека в силу разделения труда избавленного от постоянной заботы о наполнении желудка, который ежедневно в положенные часы наполняется пищей как бы сам собой, а, значит, в силу этого обстоятельства могущий недооценивать роль специфической активности по добыванию оной.
А.Н. Леонтьев, как и Л.С. Выготский не останавливается на фейербаховском мозгоцентризме. Его категорически не устраивает представление, согласно которому психическое отражение, образ возникает в мозгу непосредственно в результате «тех или иных воздействий на реципирующие системы человека» (Леонтьев А.Н. 2004: 255). Между предметом отражения и его психическим образом согласно А.Н. Леонтьеву обязательно включается «третье звено» - деятельность, причем деятельность не ментальная, какая-нибудь «мыследеятельность» или упаси боже физиологическая, а деятельность чувственная, деятельность, пластически уподобляющаяся своему предмету. Но при этом он совсем чуть-чуть, буквально пол шага не дошел до спинозовского решения. Он так и не решился ясно и недвусмысленно произнести: психика не порождается деятельностью, ибо она сама и есть деятельность, ее неотъемлемая сторона. Сама «внешняя», чувственно-протяженная деятельность не есть и не может быть предпосылкой деятельности «внутренней», которая де только и относится целиком к психологии «как это было согласно картезианскому членению» (Леонтьев А.Н. 2004: 314), как фас не может быть предпосылкой профиля человеческого лица. Она не нуждается в особом «кесаре», который пожелал бы ей володеть в отличие, от хорошо пристроенной за пазухой у бога деятельности внутренней. Внешняя деятельность не связующее «третье звено», долженствующее заполнить пропасть отделяющую отражаемую внешнюю вещь от «мозга (отражающего) (Леонтьев А.Н. 2004: 304)» (в идеологической формулировке дискуссии 1947 года). Равно это не средство опосредующее деятельность внешнюю с собственно психической или внутренней деятельностью, «психику процесс» с «психикой образом». Психика есть атрибут самой что ни на есть внешней чувственно-предметной деятельности, так что «по ту сторону» от «внешней деятельности», за ней уже нет ничего.
Он склонялся к такому решению, был близок к нему, но так никогда ни разу не произнес этой формулы. Даже в «домашней дискуссии» 28 ноября 1969 года, когда разговор шел среди своих, за закрытыми дверями и «по гамбургскому счету». Напротив, именно в ней А.Н. Леонтьев наиболее недвусмысленно сформулировал теоретическую трудность, перед которой он вынужден был остановиться.
«Я усматриваю в этой позиции, которую я сейчас условно занимаю, ряд капитальных трудностей, которые я лично сейчас решить не могу. Сколько я их ни пробовал решать – я не нахожу удовлетворительного решения до сегодняшнего дня. Может быть, товарищи имеют это решение. У меня его нет. Какие же трудности я не могу решить? Первая трудность, которую я не могу решить и которую я отчетливо вижу, состоит в том, что при такой позиции деятельность снова рассекается. Внутренняя деятельность относится к психологии, как это было согласно картезианскому членению. Внутренняя деятельность – это «богу богово», что касается до внешней, особенно практической, деятельности, то она не психологическая, ее нужно отдать кесарю, это кесарево. Только не известно – какому кесарю и кто этот кесарь» (Леонтьев А.Н. 2004: 314).
Здесь А.Н. Леонтьев фактически признает, что вопреки его желанию, противоположность «внешней» и «внутренней» деятельностей воспроизводит картезианский дуализм. Вторая упоминаемая им «трудность» связана с распадением «единой деятельности» на внешние и внутренние звенья, между которыми зияет все та же пропасть, и, наконец, третья трудность, по мнению А.Н. Леонтьева самая важная, заключается в естественном обособлении «психики-образа… от психики-процесса. Потому что то, что я назвал психика-образ, как бесспорный предмет психологии, может иметь в свернутом виде, в себе, внешнюю деятельность. Тогда уже <реальность> рассекается еще по одной плоскости. Всякий образ… есть свернутый процесс, и за этим процессом уже нет ничего. Есть объективная действительность: общество, история».
Действительно, по сю сторону от чувственно-предметной деятельности, нет ничего кроме предметной реальности, общества, природы, истории. Но, и это принципиально, ничего нет и по ту сторону. Ничего, что не было бы самой чувственно-предметной деятельностью. Допуская иное, то есть допуская, что по ту сторону от чувственной деятельности существует особый психический мир, принципиально отличный от нее, то есть мир бестелесный, мы обрекаем себя на повторение картезианской позиции, повторение картезианского дуализма со всеми его парадоксами и тупиками.
Что же мешало А.Н. Леонтьеву признать эту логически очевидную перспективу и окончательно перейти на спинозистскую позицию?
Менее всего хотелось бы рассматривать в этой связи чисто политические или «идеологические» мотивы и соображения. Не потому что их не было вовсе, их, разумеется, не могло не быть. Но потому, что при всей своей реальности они могли иметь только очень опосредованное отношение к содержательному ходу теоретической мысли мыслителя такого масштаба как А.Н. Леонтьев. Нет ничего проще, чем указать на так называемую «ленинскую теорию отражения», догматы которой де боялся оспорить А.Н. Леонтьев. Но этим мы ни на йоту не приблизимся к пониманию действительных теоретических корней тех трудностей, которые он мужественно констатировал.
§3 От «S-R» к предметности
Под раздражимостью естествознание традиционно, начиная с XVII века, когда это понятие было введено Глиссоном, понимало способность живого субстрата приходить в состояние активности, понимаемой как некоторое имманентное шевеление этого субстрата, происходящее за счет его собственной энергии при контакте с каким-либо внешним агентом-раздражителем. Понимаемая так раздражимость, согласно всеобщему мнению, есть абстрактно-всеобщее свойство любого живого тела, присущее всем организмам, как из животного, так и из растительного царств.
В свою очередь, под чувствительностью естествознание подразумевало способность организма не только приходить в состояние абстрактного шевеления под воздействием некоторого внешнего или внутреннего раздражителя, но еще к тому же как-то ощущать, субъективно переживать либо это свое состояние, либо сам агент-раздражитель, либо, наконец, то и другое вместе.
По-разному сложилась научная судьба двух вышеназванных категорий. Так, раздражимость была сразу же принята в семью категорий теоретической биологии, физиологии, а затем и зоопсихологии на правах законного и едва ли не любимого детища. Между тем судьба категории чувствительности чем дальше, тем больше напоминала судьбу падчерицы, которую вынуждены терпеть в солидном естественнонаучном семействе, да и то только потому, что без ее услуг пока еще просто не могут обойтись.
Часть физиологов предлагала вовсе избавиться от этой столь неудобной для естественнонаучного мышления категории, разделив стоящее за ней эмпирическое содержание на две части с тем, чтобы первую «объективную» или двигательную ее часть объявить видом раздражимости, а другую - «субъективную» или психическую объявить эпифеноменом и отдать на потребу спиритуалистической психологии и философии. Такова, например, позиция Клода Бернара.
Напротив, ученые, которых не устраивало простое размежевание сфер влияния и мирное сосуществование с идеалистической психологией, пытались не сводить, редуцировать категорию чувствительности к раздражимости, но, опираясь на идею эволюции, вывести ее из нее, указав на жизненное, приспособительное значение чувствительности (ощущения), вообще психики для ориентации животного в предметном мире. Такова позиция И.М. Сеченова, А.Н.Северцева и В.А. Вагнера, в рамках этой же логики сформулирована гипотеза А.В. Запорожца и А.Н. Леонтьева.
Сам факт обращения психологов к категориям раздражимости и чувствительности был обусловлен их попытками преодолеть абстрактно духовное понимание психики, и поставить психические явления в один ряд со всеми другими естественно-природными явлениями, проследить существенную связь между объективно-телесной стороной животной жизни и стороной субъективно-психической, стороной все время ускользающей из-под скальпеля «объективного» анализа, и в то же время дразнящей своей интуитивно очевидной, непосредственной наличностью.
Психикой может обладать только живой организм. «Исходное: процесс жизни в до-психической ее форме (Леонтьев А.Н. 2004: 185)» - подчеркивал А.Н. Леонтьев. С этим, надеемся, и сегодня вряд ли кто-нибудь станет спорить всерьез. Следовательно, научная теория, желающая воспроизвести в движении своих категорий возникновение и развитие психики как естественноисторического явления, должна начинать свой путь с понимания сущности жизни - этой естественной предпосылки психики.
Между тем, последовательно материалистическое понимание сущности жизни представляет собой едва ли более легкую задачу, чем материалистическое понимание психики. Над разрешением этой проблемы две с половиной тысячи лет билась философия, более трех столетий ее пытается решать современная наука, а в XX веке к размышлениям над ней к философам и биологам присоединились химики и даже физики.
Увы, достигнуть полной ясности в вопросе о том, что такое жизнь пока еще не удалось, о чем свидетельствуют продолжающиеся в науке дискуссии даже не о том или ином конкретном пути возникновения жизни на Земле, а о том, возможно ли вообще такое самозарождение жизни как необходимая ступень в эволюции материальной вселенной.
Некоторым интуитивным представлением о сущности жизни обладает, разумеется, каждыйвзрослый человек, даже не имеющий специально биологического образования, и этого представления обычно бывает вполне достаточно для того, чтобы различать живое и неживое, встречающиеся в житейском обиходе.
Однако, уже для того, чтобы судить является ли, скажем, вирус веществом или существом, недостаточным оказывается не только интуитивное, но и развитое современной наукой дискурсивное представление о сущности жизни. Тем с большей осторожностью должны мы подходить к устоявшимся, пусть даже и освященным авторитетом науки, представлениям о сущности жизни, когда речь идет о том, чтобы понять и теоретически изобразить переход от жизни допсихической к жизни опосредованной психикой.
Любое живое тело есть совокупность бесконечного ряда различных свойств или определений. Спрашивается, какие из этих свойств являются существенными для живого тела, как живого, а какие - нет, наконец, какие из его существенных свойств являются абсолютно необходимыми, атрибутивными, а какие лишь факультативными свойствами живого тела?
Логически возможны только два пути, два способа определения, вычленения существенных свойств. Первый путь - это путь эмпирической индукции, отвлечение признака абстрактно общего всем без исключения индивидам, входящим в генеральную совокупность, т.е. в нашем случае всем живым телам. Путь этот, как об этом ясно и недвусмысленно свидетельствует логика, абсолютно тупиковый, ибо a priori предполагает невесть откуда взявшееся представление о сущности предмета в качестве критерия для отнесения единичных предметов к генеральной совокупности[11].
Между тем, именно метод эмпирической индукции был, а в значительной степени и остается, методом естествознания вообще, биологического же естествознания в особенности. Стоит ли после этого удивляться тому, что, руководствуясь им, биологи в конце XX века пришли к глубокомысленному выводу о том, что Вопрос о сущности жизни есть вопрос о правильном употреблении слов, а, следовательно, проблема «вещество или существо» может решаться исключительно полюбовным соглашением, т.е. неразрешима по существу.
Так в популярном университетском учебнике биологии можно прочесть: «Все организмы и составляющие их клетки имеют более или менее определенные размеры и форму. В них происходит метаболические реакции. Они обладают раздражимостью, способны к движению, росту, размножению и приспособлению к изменениям внешней среды. Хотя этот перечень свойств кажется вполне четким и определенным, границы между живым и неживым довольно условна. Вирусам, например, свойственны лишь некоторые, но не все черты, характерные для живых организмов. Если мы поймем, что мы не в состоянии обоснованно ответить на вопрос, являются ли (здесь и далее курсив автора - А.С.) вирусы живыми, а можем лишь решать, следует ли называть их живыми, то проблема эта предстанет перед нами в правильном ракурсе»(Вилли 1974:31).
Нетрудно заметить, что вышеуказанный «ракурс» попросту устраняет из поля зрения исследователя проблему сущности жизни, подменяя ее перечислением более или менее полного списка эмпирических ее признаков, среди которых, в числе прочих, фигурирует также и раздражимость. Понятно, что, исходя из такого представления о жизни, невозможно теоретически воспроизвести процесс возникновения в эволюции материального мира форм жизни, с необходимостью, в соответствии со своей природой порождающей психику, а, разве что, пополнить эмпирическую систему признаков жизни столь же эмпирически установленным «психическим элементом». Элементом, который ввиду эмпиричности «системы» абсолютно безразличен к сколь угодно спиритуалистическому его толкованию. Между тем, именно материализм составлял всегда главный пафос сторонников эволюционного объяснения возникновения психики. Поэтому А.В. Запорожец и А.Н. Леонтьев и оказались вынуждены обратиться за пониманием сущности жизни к принципиально иной логике, с обоснования которой они и начинают изложение своей гипотезы.
«Всякий материальный процесс, - пишет А.В. Запорожец, - как неорганический, так и органический, заключается во взаимодействии материальных тел. Однако в ходе развития материи характер их взаимодействия изменяется. Если в неорганической природе взаимодействие приводит, как правило, к разрушению и уничтожению взаимодействующих мертвых тел, то в органической природе оно становится необходимым условием существования живого тела» (Запорожец 1986: 2-26).
«Жизнь есть процесс особого взаимодействия особый образом организованных тел (Леонтьев А.Н. 1981: 37)», - резюмирует А.Н. Леонтьев. Эту же логику, логику взаимодействия, он развивает и применительно к сущности психики. «Мы рассматриваем психику, - пишет А.И. Леонтьев, - как свойство материи. Но всякое свойство раскрывает себя в определенной форме движения материи, в определенной форме взаимодействия. Изучение какого-нибудь свойства и есть изучение соответствующего взаимодействия» (Леонтьев А.Н. 1981: 35).
В приведенных фрагментах оба автора по существу формулируют свое понимание категории сущности, согласно которому ее научные определения надлежит искать не внутри исследуемого предмета, а в системе его отношений, взаимодействий внутри некоторой более широкой целостности. Соответственно этому своему пониманию они и усматривают сущность жизни в раздражимости, понимаемой как форма взаимодействия живого тела с окружающей средой. Вот как эту мысль формулирует А.В. Запорожец: «Способность живых существ реагировать на воздействия окружающей среды, приходить под влиянием этих воздействий в активное состояние называется раздражимостью.
Раздражимость присуща любому организму и является фундаментальным свойством всякой живой материи» (Запорожец 1986: 2-27).
А вот определение раздражимости, принадлежащее А.Н. Леонтьеву: «Свойство организмов приходить под влиянием воздействий среды в состояние деятельности, т.е. свойство раздражимости, есть фундаментальное свойства всякой живой материи, оно является необходимым условием обмена веществ, а значит самой жизни» (Леонтьев А.Н. 1981: 21).
Нетрудно убедиться, что процитированные определения А.В. Запорожца и А.Н. Леонтьева в точности совпадают с определением раздражимости в естествознании.
Так, соответствующее определение, например, у Клода Бернара звучит так: «Раздражимость есть свойство живого элемента действовать сообразно своей природе вследствие постороннего возбуждения» (Бернар 1878: 208) Аналогично Р. Вирхов называл раздражимостью «свойство живых тел, которое делает их способными приходить в состояние деятельности под влиянием раздражителей, т.е. внешних агентов» (Бернар 1878: 208).
Заметим, что и в формулировках А.В. Запорожца и А.Н. Леонтьева, и в формулировках К. Бернара и Р. Вирхова речь идет о взаимодействии живого организма с некоторойабстрактной «внешней средой», «внешними агентами», или «посторонними» возбудителями. Вернее, строго говоря, речь идет даже не о взаимодействии, а об одностороннем внешнем воздействии на живой организм со стороны некоторых внеположенных организму внешних вещей, так что в рамках такого отношения живой организм выступает не как активный субъект взаимодействия, а как страдательный объект внешних воздействий.
Несложно разглядеть в таком специфическом понимании «взаимодействия» обычную схему естественнонаучного эксперимента. По самой сути эксперимента, как испытания природы (inquisitio de natura), активной, вопрошающей стороной через организуемое им воздействие, стимул выступает сам экспериментатор (inquisitor), в то время как на долю предмета исследования, в данном случае - живого организма, остается уже только пассивная, страдательная позиция.
Между тем, А.Н. Леонтьев без устали подчеркивает, что в рамках живого отношения, живой организм выступает именно как активный субъект.
Так он пишет: «... говоря о жизни в ее всеобщей форме, мы должны сохранить точку зрения признания активности субъекта. Для всякого живого существа предмет есть не только то, в отношении к чему обнаруживает себя то или иное его свойство, но также и «утверждающий его жизнь предмет», предмет, по отношению к которому живое существо является не только страдательным, но и деятельным, стремящимся или страстным.
- И далее, - Для растения... солнце есть не только предмет, обнаруживающий свойство растения ассимилировать углекислоту за счет солнечных лучей, но и первейшее условие его жизни, предмет, к которому оно активно, деятельно стремится. Растение выгибает по направлению к солнцу свой стебель, протягивает ветви, обращается поверхностью своих листьев» (Леонтьев А.Н. 1981: 47-48).
Заметим, что, говоря специально об активности живого организма, А.Н. Леонтьев в данном случае говорит не о взаимодействии с абстрактным внешним стимулом, или средой, а о специфически предметном отношении. Здесь Леонтьев абсолютно точен, и если следовать логике его слов, то из них напрашиваются следующие выводы.
Во-первых, живой организм дабы быть «не только страдательным», в отношении к своему предмету, «но и деятельным, стремящимся или страстным», по-видимому, не нуждается во внешнем принуждении, поводе или толчке для того, чтобы направить на него свою деятельность, но разворачивает свою активность спонтанно. Иначе говоря, поступает так, как и надлежит поступать в отношении к предмету страсти, дабы не прослыть неживым.
Во-вторых, сам предмет живого организма есть не некоторая случайная внешняя вещь, но «вещь», положенная самим организмом в качестве предмета своего «страстного стремления».
И, наконец, в-третьих, что активное, предметное действие живого организма есть не некоторое определенное лишь изнутри абстрактное шевеление, но известное спинозовско-ильенковское действие «по форме предмета».
Между тем, такое понимание предметного отношения очевидно не укладывается в рамки логической категории «взаимодействия», но совершенно очевидно восходит к «более сильной» диалектической категории, категории «полагания».
Активное, или предметное отношение вообще не может быть понято, как взаимодействие двух внеположенных вещей. То же солнце, взятое в абстракции от жизненного процесса, столь же мало является «предметом» растения, как, скажем, предметом астрономии. Специфическое «предметное» качество оно получает исключительно благодаря спонтанной активности зеленого растения, «избирающей» солнце в качестве своего предмета и ревниво воспроизводящей его движение по небосклону движением своих листьев.
Но это и означает, что живое, активное или предметное отношение (не надо трех слов, ибо это одно и то же) как таковое возможно только между живым, спонтанно активным субъектом и положенным его жизненной активностью предметом.
Иное дело стимул-реактивное отношение, или отношение «раздражимости». Это последнее, разумеется, когда оно вообще имеет место: во-первых, не спонтанно со стороны раздражимого объекта; во-вторых, не продуктивно, ибо организм не полагает своего предмета, а вынужден удовольствоваться случайным и потому безразличным внешним воздействием; и, наконец, форма ответа, реакции организма, если она не является просто механическим действием внешней причины, может быть обусловлена лишь абстрактной внутренней природой самого организма, но никак не формой безразличной для организма внешней вещи, случайно задевшей его живую субъективность, т.е. в рамках стимул-реактивного отношения не будет и малейшего следа предметности.
Между тем А.Н. Леонтьев, уже нащупав подлинно диалектическое понимание природы жизненно активного или предметного отношения, не удерживает его и вновь возвращается от диалектики полагания к рассуждениям о взаимодействии организма с «внешней средой». «Главная особенность процесса взаимодействия живых организмов с окружающей их средой, - пишет он, - заключается... в том, что всякий ответ (реакция) организма на внешнее воздействие является активным процессом, т.е. совершается за счет энергии самого организма» (Леонтьев А.Н. 1981: 50-51).
Здесь, во-первых, на место предмета А.Н. Леонтьев вновь подставляет окружающую среду, а затем пытается определить особенность взаимодействия с ней абстрактно живых организмов, то есть организмов, являющихся живыми до акта полагания предмета, до «чрезвычайного акта» встречи с готовой, предсуществующей предметностью.
Но в недифференцированном представлении об окружающей среде смешано то, что является предметом живого организма, и в отношении к чему этот организм проявляет активность, и то, что его предметом не является, а, значит, в отношении с чем живой организм лишь страдателен, т.е. не проявляет себя как живой. Поэтому во взаимодействии с окружающей средой живой организм будет проявлять себя то так, то эдак, то как живой и активный субъект, то как мертвый и страдательный объект, а, значит, «всякий ответ (реакция) организма на внешнее воздействие» со стороны окружающей среды совершено необязательно будет активным процессом, как бы далее ни понимать категорию активности.
Во-вторых, не замечая даже чисто стилистической несообразности, А.Н. Леонтьев активное отношение живого организма к своему предмету, т.е., собственно, акцию определяет как страдательное отношение, как всего лишь ответ на внешнее воздействие, как ре-акцию, приговаривая после этого, что эта реакция живого организма является на самом деле активным процессом, т.е. не реакцией, а акцией.
Надо ли говорить, что организм, который способен проявить свою живую сущность лишь в ответ на внешнее ему, а значит сугубо случайное воздействие на него со стороны абсолютно случайно очутившегося здесь и сейчас «предмета» этого организма, может остаться живым организмом лишь в результате абсолютно случайного же стечения обстоятельств.
И, наконец, в-третьих, в приведенном рассуждении А.Н. Леонтьев определяет активность как присущую только живому организму способность реагировать на внешнее воздействие таким образом, что его реакция совершается не за счет энергии внешнего толчка, а «за счет энергии самого организма». Между тем, еще на уровне неорганической химии мы имеем множество примеров именно такого, «активного» по терминологии А.Н. Леонтьева способа реагирования. Так, скажем, если в гремучий газ - смесь двух объемных частей водорода с одной частью кислорода - внести горящую спичку, то в качестве реакции на это воздействие произойдет взрыв, энергия которого будет иметь очень отдаленное отношение к энергии горящей спички, но целиком принадлежать самой раздражимой системе двух газов.
Такое по сути физикалистское понимание природы активности абсолютно не ухватывает действительной специфики живого движения и не имеет абсолютно ничего общего с развиваемым самим же А.Н. Леонтьевым представлением, о живом движении, пластически воспроизводящем форму своего предмета.
Впрочем, последнее представление А.Н. Леонтьев, в очевидном противоречии с приводимым им же самим фактом движения листьев растения за солнцем, относит исключительно к психически опосредованному движению, или чувствительности. Вообще, интересно наблюдать, как и А.Н. Леонтьев, и А.В. Запорожец, при всей серьезности и глубине их анализа, в данном пункте проявляют удивительную слепоту к фактам (которые они сами же и приводят) и не хотят признать в движениях растений способность к активному пластическому уподоблению форме предмета, будь то движение листьев за солнцем, прорастание корней по градиенту влажности, отрицательный геотропизм или, наконец, активная предметная локомоция одноклеточных и даже некоторых многоклеточных - колониальных водорослей.
На наш взгляд позиция А.Н. Леонтьева, и А.В. Запорожца коренится в разделяемом ими общем для всех эволюционистов представлении, согласно которому способность живого организма к действию «по форме» предмета есть уже, собственно, психическая способность, или, во всяком случае должна быть обусловлена последней. Поэтому способность к пластическому уподоблению, к «снятию слепка с предметных условий действия» (Запорожец 1986: 2-29) они приберегают для определения принципа взаимодействия тел в рамках уже не просто живого, но психического отношения, для определения уже не раздражимости, но чувствительности. Представление о сущности жизни интересует авторов гипотезы лишь постольку, поскольку жизнь представляет собой ближайшую ступеньку, ведущую в эволюции материального мира к психике. («Исходное: процесс жизни в до-психической ее форме» (Леонтьев 2004: 185) - записывает А.Н. Леонтьев в своих методологических тетрадях.) Поэтому, определив сущность жизни как раздражимость, они немедленно переходят к дедукции, выведению из нее чувствительности или психики.
Ближайшим, эмпирическим определением психики является ее субъективная переживаемость, презентированность индивиду. Не случайно эмпирическая психология началась с попыток подвергнуть «химическому» анализу непосредственно данные субъекту «явления сознания», его собственного сознания. Heощущаемое ощущение или непереживаемый аффект суть не более чем противоречие в определениях. Между тем именно субъективная представленностъ как таковая ставит самые серьезные препятствия на пути традиционного естественнонаучного экспериментального исследования психики и делает практически невозможным ее изучение в эволюционном аспекте, т.е. изучение различных форм зоопсихики. В этой объективной трудности коренится причина кризиса интроспективной психологии и ложных надежд на его преодолении с помощью отказа от субъективности как таковой.
Поэтому последовательно материалистически настроенные естествоиспытатели сместили акценты в проблеме возникновения и развития психики. Не умея ответить на вопрос - как Природа порождает существа, наделенные психикой, т.е. существа, способные к удвоению мира на мир реальный и мир представляемый, они очень убедительно объясняют нам для чего нужна психика.
Материалистическое обоснование возможности и необходимости психики - вот задача, которую ставят перед собой и пытаются решать ученые-эволюционисты. Между тем, именно с этой-то задачей они и не справляются, незаметно по ходу рассуждения подменяя проблему эволюционного возникновения ощущающих организмов, проблемой эволюционного возникновения и развития предметного характера жизнедеятельности животных, проблемой, разумеется, содержательно связанной с первой, но безусловно ей не тождественной.
Из общеэволюционных соображений непосредственно следует, что психика вряд ли могла бы естественноисторически возникнуть, а тем более эволюционировать, если б ее единственным смыслом была предоставляемая животному возможность ощущать свои ощущения и переживать свои аффекты, безотносительно к предметному смыслу, содержанию этих последних. Ощущения, вообще психика, имеют для животного в высшей степени утилитарный, деловой смысл именно потому, что они суть не только и не столько абстрактно субъективные переживания, но презентированное животному в форме этих субъективных, аффективных переживаний некоторое предметное содержание, образ его предметной среды, его предметных условий действия, его Umwelt.
Понятно, что животному, дабы активно перемещающееся в своем предметном пространстве в поисках пищи, убежища и полового партнера, надо располагать объективной информацией о конкретной форме этого пространства и своем месте в нем. Но из одного этого еще вовсе не следует, что подобная информация непременно должна быть представлена живому организму в виде субъективного ощущения, или переживания, ибо в таком случае у нас просто не было бы никаких логических оснований отказывать в психике и растениям, и зооспорам, да и просто всевозможным кибернетическим устройствам, успешно решающим сегодня такие пространственно-двигательные задачи.
Это, разумеется, еще не аргумент. Однако для того, чтобы отбросить столь интуитивно очевидную формулу Карла Линнея: vegetalia vivunt, animalia sentiunt необходимы более серьезные логические основания, чем одна материалистическая благонамеренность.
Ученые эволюционисты безусловно близки к истине, связывая необходимость возникновения психики с жизнью в вещно-оформленном предметном пространстве. Однако ни из чего не следует, что организмы, наделенные способностью ощущения не могут возникать еще в среде-стихие[12]. Скорее напротив, сам факт такого перехода от жизни в среде-стихие к жизни в вещно оформленном предметном пространстве говорит о том, что совершившие такой переход организмы как минимум обладали возможностью для него, т.е. хотя бы элементарной психикой.
Между тем, если исходить из того, что жизнь вообще, жизнь в ее всеобщей форме есть активный процесс, то это значит, что не только в животной, но и в растительной форме жизни необходимо присутствует отражение предметной действительности, предметного поля активным движением по его форме.
Понятно, что такое предметно-активное движение в среде-стихие, где живому организму приходится иметь дело с континуально распределенными предметами – полем освещенности, влажности и т.п. представляет собой принципиально более легкую задачу, чем движение в вещно оформленном предметном пространстве. Первое, будучи движением по градиентам предметного поля, в принципе может быть реализовано и фактически реализуется элементарным одноклеточным организмом, своего рода элементом, атомом или монадой жизни. Внешне его можно представить в виде движения элементарного, «точечного» заряда во внешнем электростатическом поле.
Однако организмы развитых многоклеточных животных, состоящие из бесчисленного множества таких живых клеток, при всем желании невозможно уподобить движению точечного заряда даже в том случае, если предметом такого многоклеточного существа является все та же среда-стихия. Предметная активность такого существа, если продолжить нашу аналогию, будет в элементарном случае походить скорее на «поведение» электрического диполя во внешнем электростатическом поле. Конкретное движение такого целого организма будет в данном случае существенно опосредовано его внутренними или рефлексивными отношениями.
Если элементарный точечный заряд будет «просто» двигаться по (или против) градиента внешнего электростатического поля, то диполь, кроме этого поступательного движения, будет все время разворачиваться вдоль силовых линий такового. При этом на составляющие его противоположные заряды все время будут действовать противоположно направленные силы, стремящиеся разорвать его на два отдельных однозначно зараженных тела, а потому общее поступательное движение диполя как целого будет существенно опосредовано силами притяжения, удерживающими противоположные заряды Диполя в единстве.
То же самое в принципе происходит и с многоклеточным животным организмом, активность которого диалектически складывается из симультанной предметной активности составляющих его живых субъединиц, связанных друг с другом некоторыми морфогенетическими или рефлексивными отношениями.
Предметная активность такого организма есть не только движение по форме предметного поля, есть не только отношение к «внешнему» предмету, но необходимо включает в себя также и момент самонаправленного, рефлексивного отношения. Поэтому любой внешнепредметный образ психического восприятия всегда аффективно окрашен, всегда дан животному не как его чисто внешнепредметная активность, а в чувственной форме, в форме внутрителесного самоощущения.
«Человеческая душа воспринимает всякое внешнее тело как действительно (актуально) существующее, - говорит Спиноза, -только посредством идеи о состояниях своего тела. (Спиноза 1957: 407)» Иначе говоря, ощущение не непосредственный слепок с объекта, но рефлексивно по своей природе.
Вот эту существенную определенность психической активности, отличающую ее от активности абстрактно жизненной, и не уловил А.Н. Леонтьев, ограничившись тем, что лишь констатировал наличие такой аффективной составляющей любого психического акта и обозначив его как «чувственную ткань ощущения».
Тут, впрочем, необходимо уточнение. Разумеется, как психолог А.Н. Леонтьев не мог недооценивать субъективную сторону психики, ее презентированность индивиду в виде чувственных образов и аффектов. Но, если анализ природы восприятия и, говоря шире, анализ когнитивных процессов оказался в высшей степени «удобным» для теории деятельности, разработавшей в этой области целый спектр исключительно продуктивных экспериментальных методик и теоретических идей, то того же никак нельзя сказать о процессах аффективных.
Между тем, противоречивость взглядов А.Н. Леонтьева на природу абстрактной жизненной активности, которую он, как мы показали выше, фактически истолковал как раздражимость, т.е. непредметно, привело его дополнительно к целому ряду противоречий и неразрешимых трудностей, когда он из такой «активности» попытался непосредственно дедуцировать определения психического отношения.
С одной стороны, он энергично пытался опровергнуть расхожую схему SèR, резонно указывая на то, что ее принятие исключает принцип активности субъекта и применительно к человеку необходимо приводит к выводу, что его «сознание определяется окружающими вещами, явлениями» (Леонтьев 1977: 81).
Но, с другой стороны, он тут же сам соскальзывал на эту же стимул-реактивную логику, когда на место собственно предмета, положенного жизненной (а в случае человека - культурной) активностью субъекта он no-существу подставлял все ту же внеположенную субъекту внешнюю вещь.
«Основной, или, как иногда говорят, конституирующей характеристикой деятельности является ее предметность - утверждает А.Н. Леонтьев. - Собственно, в самом понятии деятельности уже имплицитно содержится понятие ее предмета (Gegenstand). Выражение «беспредметная деятельность» лишено всякого смысла. Деятельность может казаться беспредметной, но научное исследование деятельности необходимо требует открытия ее предмета. При этом предмет деятельности выступает двояко: первично - в своем независимом существовании, как подчиняющий себе и преобразующий деятельность субъекта, вторично - как образ предмета, как продукт психического отражения его свойств, которое осуществляется в результате деятельности субъекта и иначе осуществиться не может» (Леонтьев 1977: 84).
В приведенном фрагменте со всей очевидностью выступает главное противоречие во взглядах А.Н. Леонтьева. Либо «предмет» «в своем независимом» от деятельности существовании есть вовсе не предмет, а просто некоторая внешняя вещь, и тогда деятельность в схеме Леонтьева детерминируется не предметом, а «окружающими вещами, явлениями», а значит он благополучно возвращается к той же сапой схеме SèR, либо между субъектом активности (деятельности) и внешними вещами существует некоторая мистическая, или целевая связь, полагающая внешнюю вещь в определение предмета еще до начала самого процесса деятельности. Последняя альтернатива, как не трудно убедиться, столь же далека от материализма, как и первая.
Отсюда в теории А.Н. Леонтьева возникает, наконец, самая главная и no-существу неразрешимая в ее рамках проблема - проблема соединения субъекта деятельности с вне и независимо от него существующим «предметом». Пытаясь решить ее и А.Н. Леонтьев, и А.В. Запорожец, обращаются к категории «сигнальности», заимствуя ее из всецело стимул-реактивной концепции И.И. Павлова[13].
Между тем, павловская теория нисколько не может помочь в решении подобной проблемы, ибо она сама весьма сильно грешит все тем же телеологизмом.
«Животному мало, - пишет И.П. Павлов, - забрать в рот только находящуюся перед ним пищу, тогда бы оно часто голодало и умирало от голодной смерти, а надо ее найти по разным случайным и временным признакам, а это и есть условные (сигнальные) раздражители, возбуждающие движение животного по направлению к пище, которые кончаются введением ее в рот» (Павлов 1977: 84).
Животного и его возможный предмет - пищу - Павлов исходно берет и рассматривает абстрактно, вне процесса их действительного взаимополагания. (Так же, впрочем, поступает и большинство психологов, исходящих в своем теоретизировании из двух заведомо ложных абстракций - наделенного психическими способностями субъекта самого по себе и столь же абстрактно противостоящей ему внешней вещи, выступающей в определении раздражителя или стимула). А затем следует попытка их воссоединения, которая, будучи основана на вышеуказанной предпосылке, представляет собой воистину «акт чрезвычайный».
И действительно, если животное обречено находить свой предмет по «разным случайным и временным признакам», то тот несомненный факт, что оно его, как правило, с необходимостью находит, и нельзя оценить иначе, как «акт чрезвычайный», или, попросту, как чудо.
Если возбуждение «движения животного но направлению к пище» может быть действием, основанным на абстрактно случайных признаках природных вещей, служащих ему пищей, то бесконечное повторение подобных «случайностей» может свидетельствовать только о том, что это движение каждый раз побуждается некоторой сверхприродной, или целевой причиной. Попросту говоря, если мы объявляем встречу животного с его предметом в рамках натуральной логики абстрактной случайностью, т.е. чем-то принципиально в данной логике необъяснимым, то единственно остается апеллировать к божественному провидению, которое преднамеренно создало мир, включая и животных, так, чтобы последние находили себе пищу в растениях и друг в друге и, даже, в каждом отдельном случае направляет их стопы (лапы, копыта, крылья и т.п.) к пригодной им пище.
Так, логика механической причинности с необходимостью переходит в логику телеологическую, причем в форме той самой внешней целесообразности (предназначенности одной вощи для другой), которая, согласно меткому определению И. Канта, представляет собой могилу всякого здравого рассуждения.
Почему А.Н. Леонтьев пошел в этом пункте за И.П.Павловым? Тому, наверное, есть много причин, от неразработанности в философско-теоретической литературе понятия активности до идеологических обстоятельств тех лет.
Саму идею, сам пафос «субъективности», «пристрастности» человеческой чувственной деятельности, А.Н. Леонтьев и А.В. Запорожец заимствуют у Маркса. Но сказав «А», они так и на сказали «Б». Указав на категорию активности как на ключ к пониманию специфики «умного» действия, они не удержались на достигнутой теоретической высоте, не предложив содержательного понимания этой категории.
Впрочем, мы далеки от того, чтобы упрекать их за это. Развитие любой науки имеет свою непростую логику. Тем более, когда речь идет о такой науке как психология. Да, первая попытка преодолеть парадигму стимул-реактивности не увенчалась успехом. Но она была сделана, и сделана в совершенно правильном направлении. Соответственно, верное решение проблемы было близко, оно пусть и в неявной форме уже содержалось в ней самой. Хотя бы в виде еще неснятого противоречия.
Между тем, опираясь на сформулированное нами выше понимание принципа активности, попытаемся, ступая след в след за спинозовским Богом, пройти (и тем самым понять) путь, который проходит материальная природа в своем движении от неживого к живому, от просто живого к чувствующему, и, наконец, от чувствующего к сознающему.
психология активность рефлексивность мышление жизнь
Глава II. Понятие жизни как основание выделения критерия психического
Где и когда в эволюции материальной вселенной появляются такие организмы, сущность которых заключена в их активности, активности, понимаемой как противоположность страдательности, как способность организма не просто претерпевать воздействия со стороны абстрактно внешних ему предметов, и лишь реагировать на эти воздействия извне тем или иным специфическим образом, но спонтанно, без какого-либо внешнего принуждения, или «толчка», самим процессом своей жизнедеятельности творить свой собственный предмет, одновременно и противополагая его себе, и отождествляясь с ним, в действии «по его форме».
Исчерпывающе ответить на этот вопрос невозможно, если не проанализировать историю его постановки, сначала в немецкой классической философии, а затем не соотнести выработанную последней логику постановки и решения этой проблемы с аналогичными попытками ученых-естествоиспытателей, натолкнувшимися в ходе решения ими своих научно-теоретических задач на сходную проблему, и пытавшихся решить ее своими средствами.
В данной работе мы, разумеется, не претендуем на полноту охвата истории данного вопроса, а потому в том, что касается немецкой классической философии, ограничимся лишь одним частным замечанием. Отметим, что Кант и Фихте, у которых впервые в истории философии встречается представление о деятельном субъекте, актом своей деятельности полагающем и противополагающем себе свой предмет, выводили эту деятельность из «продуктивной способности воображения» деятельного субъекта, ставили и решали эту проблему как проблему человеческого познания, или, в их терминологии, субъективного духа или «Я».
Напротив, в истории естествознания представление об активности, понимаемой более или менее последовательно как способность организма к действию «по форме предмета» и обусловливающей способность организма к жизни в предметно-расчлененной среде, исходно связывалось с представлением о психике вообще, т.е. и человеческой психике (сознании), и зоопсихике.
Более того, целостному представлению об активном, деятельном субъекте, развитому немцами-классиками, представлению, включающему как момент противоречия субъекта и его предмета, так и момент их тождества, в современном естествознании пока нет соответствующего аналога, а отдельные стороны этого представления, еще не переплавленные в единое понятие, разрабатываются в рамках различных отраслей естествознания, не соотносясь друг с другом и даже не ведая о необходимости такого соотнесения.
Так, представление об активности субъекта психики, или животного, понимаемой как его, животного, способность к отождествлению со своим предметом в акте действия «по его форме», развиваемое в известных школах физиологии и психологии, не включает в себя представления о полагании предмета деятельности самой этой деятельностью.
С другой стороны, представление о полагании предмета деятельностью самого субъекта можно усмотреть лишь в эволюционной теории, экологии и почвоведении, т.е. в областях знания, бесконечно далеких от физиологии и психологии с их поисками понимания сущности психики как предметного действия, или действия «по форме предмета».
Между тем, активность, понимаемая конкретно, т.е. в единстве всех ее определений, является, как мы это покажем ниже, атрибутом не только психической жизни, но и жизни вообще. Иначе говоря, в абстракции хотя бы от одной из ее сторон нельзя понять возникновения и существования ни существ, наделенных психикой, ни живых существ вообще.
Соответственно, попытки построить теоретическое понимание психики, фактически основывающееся на представлении о жизни как о чисто страдательном процессе, должны с необходимостью поставить эту теорию перед лицом целого ряда абсолютно неразрешимых трудностей и парадоксов.
Прежде чем идти дальше, определим принцип активности (деятельности) в противоположность принципу страдательности (созерцания).
Итак, активность характеризует:
1. Не реактивность, а спонтанность;
2. Не абстрактно внешний предмет, но предмет, противоположенный жизнедеятельностью самого субъекта, т.е. продуктивность;
3. Не имманентное шевеление, а действие по форме предмета, т.е. предметность,
Дабы доказать, что принцип активности, взятый во всем его объеме, является по существу принципом жизни вообще, то есть всякой жизни, как опосредованной психической активностью, так и не опосредованной оной, попробуем логически реконструировать сам процесс возникновения жизни на Земле, опираясь, при этом, на, пусть немногие, но достаточно достоверно установленные современной наукой и философией положения.
Начнем с некоторого «рабочего» определения сущности жизни, определения, с которым, ввиду его предельной абстрактности, могли бы согласиться по крайней мере все, кто не ищет понимания жизни в каких-либо мистических vis viva и т.п.
Итак, жизнь есть способ существования белковых и нуклеиновых тел. Молекулы белков и нуклеиновых кислот, ввиду их исключительно сложной структуры, под воздействием тепла и естественного радиоактивного фона Земли in vitro за достаточно короткий промежуток времени с необходимостью распадаются на более низкомолекулярные соединения, т.е. в соответствии с законами термодинамики переходят к состоянию, характеризующемуся более высокой энтропией.
Между тем, in vivo молекулы белков и нуклеиновых кислот существуют во много порядков раз дольше, т.е. энтропия живой системы остается исключительно низкой, пока организм живет, и начинает резко и закономерно возрастать лишь с его смертью. Не противоречит ли этот несомненный эмпирический факт фундаментальным законам природы? Нисколько, - утверждает Э. Шредингер в своем знаменитом трактате: «Что такое жизнь с точки зрения физики?»
«... и живой организм непрерывно увеличивает свою энтропию - или, говоря иначе, производит положительную энтропию и таким образом приближается к опасному состоянию максимальной энтропии, которое представляет собою смерть. Он может избегнуть этого состояния, то есть оставаться живым, только путем постоянного извлечения из окружающей его среды отрицательной энтропии... Отрицательная энтропия вот то, чем организм питается. Или, чтобы выразить это менее парадоксально, существенно в метаболизме то, что организму удается освобождать себя от всей той энтропии, которую он вынужден производить, пока он жив»(Шредингер 1947: 102).
Эту же мысль развивает и биохимик Манфред Эйген. «Из анализа доступных нам живых систем мы знаем, что во всех клетках происходит обмен веществ..., который является необходимым (курсив автора - А.С.) условием существования любой формы жизни. Только постоянно используя приток свободной энергии, система может непрерывно обновляться и этим тормозить свое падение в состояние термодинамического равновесия, которое Эрвин Шредингер метко назвал состоянием смерти. Характерный для процессов жизни динамический порядок может поддерживаться только за счет постоянной компенсации производства энтропии» (Эйген М., Винклер Г. Игра жизни. М., 1979, с. 10-11.)[14].
Из анализа вышепроцитированных, да и множества других работ, в которых физики и химики размышляют над проблемой жизни, можно сделать два вывода. Первый, что живой организм для того, чтобы оставаться живым, должен... питаться, то есть извлекать, или получать из окружающей среды ничто определенное - «отрицательную энтропию», «свободную энергию» или, попросту, питательные вещества, или пищу. И второй, что авторы этих работ ищут ключи к загадке возникновения и существования жизни исключительно внутри тела живого организма, в физических, химических, информационных и т.п., процессах, разворачивающихся в недрах живого субстрата, в то время как жизнь, как простая, неделимая сущность, и, соответственно, живой организм как единица, или атом жизни, как монада, остается за пределами сферы их теоретических интересов.
Обсуждая значение и роль пищи (как бы последняя при этом не понималась, как «отрицательная энтропия», или как совокупность определенных химических веществ) в процессах, происходящих внутри живого тела, как от несущественной подробности абстрагируются от специфической активности целого организма, направленной на достижение этой пищи. Так, скажем, М. Эйген в уже цитированной нами работе утверждает, что живой организм использует «приток свободной энергии», обсуждает особенности эволюции некоторых гипотетических праорганизмов (гиперциклов) при «постоянной скорости подвода (курсив мой – А.С.) высокоэнергетического строительного материала (пища)», т.е. во всех случаях исходит из представления о пассивном, страдательном отношении живого тела к предмету его нужды.
Впрочем, если подобный взгляд на жизнь еще до некоторого пределы терпим в рамках физического или химического теоретизирования, то в пределах собственно биологического знания он уже не выдерживает никакой критики. Тем не менее, представление о жизни, как о страдательном процессе, все еще доминирует и в биологии[15]. «Что касается животных, питающихся живой добычей, - пишет В.А.Вагнер, - то факты свидетельствуют, что поиски ее явились не сразу, что этой способности предшествовал длинный период жизни, когда животные не искали пищи, а ожидали ее «подвоза», как растения. Таковы, например, актинии из общеполостных животных»[16]. Таким образом, по мнению.А. Вагнера, которое разделяет также и А.В. Запорожец, приводящий вышепроцитированный фрагмент в «Развитии произвольных движений», страдательным процессом оказывается не только растительная, но отчасти и животная форма жизни[17].
Между тем, имеется более чем достаточно и логических, и фактических оснований для того, чтобы усомниться в подобном выводе. Разумеется, эволюция живых организмов может породить виды животных, ведущих более или менее неподвижный относительно субстрата образ жизни, однако такие организмы безусловно не являются первичными и всеобщими формами жизни, а представляют собой всего лишь боковую, тупиковую ветвь на древе жизни, сама возможность существования которой как раз и обусловлена обилием и разнообразием подвижных ее форм.
Прежде, чем перейти к доказательству этого тезиса, набросаем хотя бы в самых общих чертах типологию видов подвижности живых организмов.
Первое, наиболее бросающееся в глаза эмпирическое разделение, это разделение экстра- и интрасоматической подвижности. К первому классу относятся локомоции и манипуляции, промежуточное, переходное положение занимают сосательные и жевательные движения, ко второму классу - перистальтические движения и движения, о которых подробно речь пойдет ниже, и которые мы пока лишь обозначим как самонаправленные или рефлексивные движения.
Отметим, что приведенная нами классификация видов живых движений основана на месте расположения предмета, на который направлена двигательная активность организма, относительно самого организма. Так, предмет локомоций и манипуляций находится всегда снаружи организма, предмет перистальтических движений (содержимое пищеварительного тракта, желчного и мочевого пузырей, всевозможных сосудов) - всегда внутри организма.
Предмет самонаправленных или рефлексивных движений - сам организм животного[18]. Этот тип движений в свою очередь распадается на два вида. Первый - чистые или абстрактные рефлексивные движения представляет собой самостоятельный вид движений, который, собственно, только и может быть рядоположен локомоциям, манипуляциям и перистальтике. Это суть - потягивания, зевки, почесывания, всевозможные гигиенические движения - самовылизывание, расчесывание и т.п.
Напротив, второй и всеобщий вид рефлексивных движений не может быть рядоположен прочим, экстрапредметным видам движения, ибо составляет их неотъемлемую сторону, атрибут. И локомоция, и перистальтика, и манипуляция невозможны, если они не включают в свой состав как подчиненный и снятый момент это самонаправленное, рефлексивное движение.
Наконец, последнее различение, которое необходимо сделать, это различение между внешними и внутренними рефлексивными движениями. Первые суть совокупность направленных друг на друга движений отдельных организмов одного вида и, даже, видов симбионтов, вторые - совокупность направленных друг на друга движений живых субъединиц, ансамбль которых и составляет живое, предметное движение многоклеточного организма,
Коснемся, также сугубо предварительно, генеалогии вышеперечисленных видов подвижности.
Ясно, что ни перистальтика, ни манипуляция не могут претендовать на роль древнейшей формы подвижности, ибо древнейшие праорганизмы были, естественно, одноклеточными, и, следовательно, попросту не располагали органами такого рода подвижности. На том же основании, т.е. ввиду одноклеточности древнейшего праорганизма, из претендентов на статус древнейшей и первичной выпадает также и внутренняя рефлексивная подвижность.
Итак, на роль древнейшей формы подвижности могут претендовать только локомоции и внешняя рефлексивная подвижность. Между тем, являются ли две вышеназванные формы подвижности атрибутивным свойством всякой живой материи, свойством без которого живая материя не может ни существовать, ни мыслиться, а также каково отношение между этими двумя формами подвижности, необходимо выяснить в ходе дальнейшего анализа.
Первое, что необходимо зафиксировать, как исходный пункт нашего рассуждения, это то, что любое белковое тело, дабы оставаться структурно тождественным самому себе, т.е. не разлагаться на более низкомолекулярные химические соединения под воздействием многочисленных физических и химических агентов внешней среды, должно постоянно искать и находить в этой же внешней среде пластический материал и энергию для восстановления, воспроизводства своей структуры.
Белковое тело, неспособное к такого рода активности, обречено на разложение, т.е. смерть (даже, если жизнь понимать как свойство покоящегося белка).
И напротив, живым может быть и оставаться лишь такое белковое тело, которое самой своей природой определено к постоянному активному поиску своего предмета, постоянно устремлено к своей неорганической природе, и которое посредством этого постоянно воспроизводит свое органическое тело, притом, воспроизводит его расширенно.
Давление внешних деструктивных воздействий на белковое тело - тепловых, радиационных и химических - не знает перерывов и, кроме того, изменчиво во времени. Поэтому сохраниться может лишь такое белковое тело, которое однажды так или иначе возникнув, не дожидаясь какого-либо внешнего толчка, или побуждения, в соответствие со своей природой спонтанно приходит в состояние активного поиска пищи, и при этом, не только ищет, но находит и ассимилирует последнюю, наращивая свою живую массу.
Необходимо подчеркнуть, что прирост живой массы и ее пространственная экспансия суть единственная страховка нарождающейся жизни от всевозможных случайностей, которые рано или поздно появляются на ее горизонте в виде положительных флюктуаций тех или иных губительных для живого белка воздействий.
Поскольку сейчас анализируется проблема первичного возникновения жизни, то, говоря о деструктивных воздействиях на живое, мы рассматриваем пока исключительно физико-химические, абиогенные воздействия, за которыми стоят процессы геологической и климатической эволюции Земли. Последние, как правило, в некатастрофическом случае изменяются достаточно медленно в масштабе времени жизни отдельных организмов. Между тем, сколь бы ни были малы флюктуации природных условий, они рано или поздно уничтожили бы зародившуюся на планете жизнь, если бы она оказалась неспособной так или иначе приспособиться к ним.
Поэтому, однажды возникнув, живые организмы могут сохраниться и выжить только в том случае, если они окажутся способны не только расширенно воспроизводить себя в своем наличном качестве, но и дивергентно изменяться, обеспечивая этим материал для естественного отбора и страхуя жизнь, как глобальный процесс, от неизбежной гибели.
Между тем, дивергентная изменчивость, уже как таковая, предполагает не простое, а расширенное воспроизводство живых организмов. Поэтому, и колебание величины внешних воздействий на организм вокруг некоторых постоянных величин, и их поступательное изменение ставят живые организмы перед витальной необходимостью постоянного расширенного самовоспроизводства, а, значит, дает спонтанно активным но своей природе организмам столь мощное эволюционное преимущество перед организмом лишь реактивным, или «раздражимым», что, скорое всего, должно бы было полностью элиминировать последних на самых ранних этапах возникновения и развития жизни. Если, впрочем, абстрактно раздражимые организмы вообще когда бы то ни было возникали и могли существовать хоть самое короткое время.
Из вышеизложенных рассуждений и следует, что раздражимость, как категория, долженствующая выражать абстрактно всеобщую сущность жизни, на самом деле есть всего лишь идеализация схемы лабораторного эксперимента над живыми объектами, в которой спонтанная активность экспериментатора, организующего систему воздействий на живой организм, заслоняет от него спонтанную активность самого организма, в которой как раз и заключена специфика живого субъекта перед объектами физическом или химической природы.
Итак, поскольку естественное возникновение и эволюция жизни на нашей планете есть совершившийся факт, то из него со всей очевидностью следует, что самопроизвольно зародившиеся древнейшие организмы – пробионты обладали не всего лишь раздражимостью, или реактивностью, но были спонтанно активны, и, что спонтанная активность представляет собой таким образом наиболее глубоко укорененное свойство, или атрибут всего живого, его подлинно всеобщее определение.
Могли ли, между тем, пробионты обладать предметной активностью, то есть способностью искать и находить свой предмет (пищу), без выраженной внешней подвижности?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо предварительно уточнить - что может служить пищей, т.е. предметом активности, пробионтов.
Ясно, что таковой по определению не может служить органика биогенного происхождения просто из-за отсутствия таковой в начале процесса биогенеза на Земле[19].
В то же время, пищей для пробионтов не могли служить также и неорганические и элементарные органические молекулы, ибо для того, чтобы синтезировать из них «живую» высокомолекулярную органику, требуется весьма длинная и сложная цепь реакций синтеза, аналогичная той, которая существует, например, у фотосинтезирующих растении.
Пробионт, если, разумеется, исключить возможность его происхождения посредством акта божественного творения, не мог располагать возможностью для столь сложного процесса самосборки. Поэтому, единственно возможной пищей для пробионта могли служить только достаточно сложные и крупные органические молекулы абиогенного происхождения (аминокислоты, сахара, нуклеотиды и др.). И они располагали таковыми в достаточном количестве. По оценке К. Сагана, первобытный океан к моменту зарождения в нем первых форм жизни представлял собой 1%-ный раствор различных органических соединений, т.е. был по существу, весьма концентрированным «питательным бульоном».
Однако, сколь бы ни была высока исходная концентрация питательных веществ в первобытном океане, успешно живущий и развивающийся, т.е. расширенно воспроизводящий свое органическое тело, пробионт[20] должен был раньше или позже создать относительный дефицит питательного субстрата в некоторой окрестности вокруг себя.
Причем, чем успешнее отдельный пробионт ассимилировал абиогенную, «неорганическую» органику, превращая ее в свое собственное органическое тело, том скорее он должен был «съесть» свою собственную основу, создать вышеупомянутый дефицит пищевого материала и, либо погибнуть из-за отсутствия доступной ему пищи, либо начать перемещаться относительно окружающей его среды по градиенту концентрации пищевого вещества.
Заметим, что создание такого локального дефицита пищевой органики, такое воздействие живого организма на окружающую его среду и есть упомянутая выше продуктивность. Организм, не налагающий на внешний, объективный мир печать своей субъективности, и не может взаимодействовать с этим миром как живой организм, относиться к нему как к своей неорганической природе, своему—иному. Мир, не сформированный жизненной активностью самого организма, так и останется для него чуждым и всецело внешним, трансцендентным ему миром, взаимодействие с которым будет целиком носить абстрактно механический или химический характер.
Между тем, если гипотеза о том, что пробионт самим процессом своей жизнедеятельности создавал вокруг себя дефицит пищевого материала, т.е. был организмом продуктивным верна, то сколько-нибудь длительное существование неподвижных живых организмов оказывается невозможным. Однако, прежде чем принять этот вывод, уточним - возникал ли такой дефицит с необходимостью, или могли существовать естественные механизмы компенсации последнего, действующие без перемещения самого пробионта.
Абстрактно, можно представить себе три таких механизма компенсации. Во-первых, абиогенный синтез, достаточно быстро восполняющий убыль пищевых молекул непосредственно в ближайшей окрестности пробионта. Во-вторых, выравнивание концентрации за счет диффузии молекул пищевой органики из слоев воды, удаленных от пробионта. В-третьих, за счет течения воды, «подвозящей» к поверхности пробионта все новые и новые порции питательных веществ. Рассмотрим каждый из этих механизмов в отдельности.
Первый механизм оказывается непригодным потому что процесс абиогенного синтеза органических молекул порождает рацемическую смесь изомеров этих молекул, т.е. смесь, содержащую приблизительно равное число молекул с право- и левосторонней симметрией.
Между тем, «... живой природе присуща практически абсолютная хиральная чистота: белки содержат только «левые» аминокислоты, а нуклеиновые кислоты - только «правые» сахара!
- Причем, саморепликация -... может возникнуть и поддерживаться только в хирально чистой среде»[21].
Следовательно, жизнь, в принципе, не может ни возникать, ни поддерживаться непосредственно в тех местах, где происходит абиогенный синтез органических молекул, а значит возмещение ассимилированного неподвижными пробионтами материала, может происходить либо за счет диффузии молекул последнего, либо за счет их переноса навстречу пробионтам-потребителям с потоком воды.
Возможности диффузии в качестве механизма компенсации расхода ассимилированных пробионтом молекул пищевой органики также весьма сомнительны. Скорость диффузии существенно зависит от температуры раствора и массы переносимых молекул. В диапазоне температуры, пригодном для существования белковых организмов, скорость диффузии может еще быть достаточной для того, чтобы обеспечить взвешенную в воде, неподвижную одноклеточную водоросль относительно легкими молекулами кислорода и минеральных солей, однако она будет явно недостаточна для возмещения расхода крупных органических молекул аминокислот, нуклеотидов, сахаров и т.п.
Предположим, наконец, что пробионты были прикреплены к некоторому неподвижному субстрату, постоянно омываемому водой, содержащей необходимые для их питания вещества. Понятно, что в таких условиях пробионты должны были бы интенсивно наращивать свою совокупную массу и число, а значит раньше или позже выйти за границы специфического «рая», в котором жареные рябчики возникают едва ли не прямо во рту пожирающего их гурмана. Следовательно, даже в этом случае пробионты в масштабе эволюции мгновенно столкнулись бы с пресловутым дефицитом пищевого материала.
Итак, если вышеприведенные рассуждения верны, т.е. если пробионт, потребляя органические молекулы, растворенные в первобытном океане, для расширенного воспроизводства своего белково-нуклеинового тела, создавал дефицит этих молекул в некоторой своей окрестности, то неподвижные организмы безусловно не имели никаких шансов на выживание. И, напротив, такие шансы могли быть только у подвижных форм.
Теперь, когда мы располагаем этим выводом, мы, как будто, можем вернуться к вышеприведенному рассуждению о том, что создавший вокруг себя дефицит пищевого материала пробионт должен был либо погибнуть, не будучи в состоянии с необходимой скоростью воспроизводить свои разрушающийся структуры, либо начать двигаться относительно субстрата по градиенту концентрации пищевого вещества. Между тем, такой вывод, при всей его кажущейся самоочевидности, неизбежно приводит к новой логической трудности.
Если исходить из пробионта, который ассимилируя питательные вещества, покоился бы относительно окружающей его среды, а ведь именно такое поведение как тенденция свойственно всем животным, не исключая, увы, и человека, то нам, разумеется, было бы понятно для чего, с каким целью ему рано или поздно пришлось бы прервать свои столь приятный послеобеденный покой и отправиться в путь по градиенту концентрации пищевых молекул. Вопрос, однако, в том, была бы цель похода по градиенту столь же хорошо «понятна» самому пробионту?
Иначе говоря, если исходить из пробионта, способного к самовоспроизводству своего органического тела без движения, локомоции относительно субстрата, то объяснение его перехода к движению, к локомоции становится невозможным без грубого телеологизма, ибо принципиально неясным останется почему дотоле неподвижный организм вдруг придет в движение, почему он при этом начнет двигаться именно по градиенту концентрации пищевых молекул, а не, скажем, против, поперек или вовсе безотносительно к этому градиенту, и, наконец, как, посредством чего он осуществит эту локомоцию?
Единственным выходом из обрисовавшегося телеологического тупика может быть только предположение, что пробионты имманентно подвижны, причем по своей внутренней природе подвижны так, что процесс их самовоспроизводства есть в то же время процесс их локомоции по градиенту концентрации расходуемого пищевого материала. То есть не сначала пробионты в процессе питания создают вышеназванный градиент, а потом начинают двигаться по нему за новой порцией пищевых молекул, но сам процесс питания, ассимиляции этих молекул есть и причина, и механизм их направленной, предметной локомоции.
Данное рассуждение просто снимает два из трех вышеперечисленных вопроса, два «почему». Ответ на них превращается в простую тавтологию: потому что таковой должна быть природа элементарных белково-нуклеиновых систем, дабы они могли самовоспроизводится и оставаться островками вещества с энтропией на порядок ниже, чем у окружающей их среды.
Принципиально, ясен также и ответ на третий вопрос - как, посредством чего может реализоваться такая локомоция.
Простейшие организмы, как таковые, не могут обладать какими бы то ни было специализированными органами, включая, разумеется, и органы передвижения. Единственным и всеобщим органом пробионта, с которым он просто совпадает как целое, может быть только орган его самовоспроизводства. Следовательно, механизм самовоспроизводства пробионта должен быть в то же самое время и механизмом его направленной, предметной локомоции.
Каковой же должна была быть «анатомия и физиология» пробионта, чтобы он обладал способностью в одно и то же время, одним актом реализовать две на первый взгляд столь различные функции: функцию ассимиляции, самовоспроизводства и функцию локомоции, так сказать, функцию желудка и функцию крыльев?
Ответ на этот вопрос, разумеется, не входит в нашу задачу, ибо ответить на него достаточно определенно можно будет лишь тогда, когда совместными усилиями целого ряда наук, от физики до биологии, удастся искусственно воспроизвести процесс самозарождения жизни. Но и оставить решение этой проблемы на откуп будущей Науке, не указав, хотя бы гипотетически, направления поисков ее решения, значило бы остаться в пределах чисто умозрительной, спекулятивной конструкции.
Между тем, уже на сегодняшний день мы фактически располагаем возможностью представить себе такой телесный орган, который в одно и то же время осуществлял бы и функцию биосинтеза, и функцию локомоции. Начнем с того, что рассуждая о пробионте, взвешенном в древнем океане, и еще не отделенном от него плазматической мембраной, мы отнюдь не обречены на абстрактное умозрение. Любая современная живая клетка представляет собой, по существу, миниатюрную модель древнего океана, содержащего достаточную концентрацию метаболитов, и «голого» пробионта - самовоспроизводящейся белково-нуклеиновой системы - помещенной в этот океан.
Эволюционно необходимость в мембранной оболочке очевидно и была обусловлена сверхкритическим снижением концентрации абиогенной органики в древнем океане, снижением, обусловленным жизнедеятельностью самих пробионтов.
Если рассмотреть как функционирует такая современная клетка, то мы обнаружим, что в ней для того, чтобы обеспечить цепь последовательных реакций ферментативного синтеза, осуществляемых правильно расположенными на многочисленных внутриклеточных мембранах молекулами белков-ферментов, помимо нормального, то есть перпендикулярного к мембране транспорта метаболитов, избирательно фильтруемых самими мембранами, должен осуществляться также и тангенциальный, т.е. параллельный этим мембранам перенос промежуточных продуктов этих реакций, своего рода конвейер биохимических полуфабрикатов. Уже сами размеры таких мембранных канальцев того же эндоплазматического ретикулюма или комплекса Гольджи, составляющие величину порядка 50-100 нм, вряд ли допускают возможность свободной диффузии промежуточных продуктов синтеза и скорее всего требуют активного транспорта таковых.
Так вот, в качестве основного «виновника» такого тангенциального по отношению к мембране переноса молекул - продуктов ферментативного синтеза - имеются серьезные основания заподозрить сами белки-ферменты Ферментативная активность последних прямо кореллирует с их конформационной подвижностью, или «... так называемыми конформационными переходами... характеризуемыми взаимным перемещением и поворотом атомов и групп атомов и вовлечением в движение вторичной и третичной структур белка»[22]. Причем сама по себе такая конформационная подвижность не есть чисто случайный, «броуновский» процесс.
«Дело в том, что в современной молекулярной биологии макромолекулы белков, в первую очередь глобулярных белков, рассматриваются как своего рода молекулярные машины, выполняющие определенные операции (например, катализ биохимических реакций выполняют белки-ферменты, узнавание белков чужеродных для организма клеток - иммуноглобулины, фотохимические преобразования - белки светочувствительных клеток сетчатки глаза и т.д.). С точки зрения физики такие машины, способные работать с высоким КПД в тепловой среде должны представлять собой частично равновесные системы, у которых -состояние некоторых выделенных степеней свободы кинетически зафиксировано. Движение но этим степеням свободы имеет механический (не броуновский) характер, слабо взаимодействует с движениями по другим степеням свободы, образующим тепловой резервуар, и поэтому оно отвечает упорядоченному функционированию. Следует пояснить, что выделенные степени свободы - это коллективные переменные, движение по ним представляет собой сложно согласованное перемещение всех (или по крайней мере многих) элементов молекулы белка»[23].
Нам представляется, что естественно возникающая ассоциация между вышеприведенным рассуждением и представлениями Н.А. Бернштейна об ограничении степеней свободы костно-мышечного локомоторного аппарата животных является не случайной, и что в данном примере мы имеем дело с древнейшим механизмом, служившем одновременно и средством ассимиляции пищевого материала, и средством локомоции пробионтов, еще не замкнутых плазматической мембраной, а значит напрямую взаимодействующих своими активными ферментами с окружающей средой.
Таким образом, уже с самого момента своего возникновения жизнь являлась спонтанным, продуктивным и предметным процессом, или, говоря проще, процессом активным. Этот же вывод следует и из анализа развитых форм жизни.
О том, что жизненный процесс необходимо опосредован активным движением относительно субстрата, ярко свидетельствует и тот факт, что в клетках листьев растений, имеющих благодаря жесткой целлюлозной клеточной стенке неизменную форму, цитоплазма активно циркулирует по периметру клетки, и то, что, согласно современным представлениям, едва ли не все виды живых существ, включая все высшие животные и растения, происходят от обладавших способностью к активной локомоции одноклеточных жгутиковых. Об этом же говорит, наконец, огромное многообразие форм предметной активности, от очевидной локомоции активных животных и зооспор водорослей, вплоть до специфической активности растений, прорастающих корнями по градиенту влажности почвы и разворачивающих листья в соответствии с градиентом освещенности.
Вернемся, однако, к категориям продуктивности и предметности, ибо именно продуктивность в ее диалектическом соотношении с предметностью представляет собой центральный и на наш взгляд наименее разработанный пункт в понимании природы активности. Еще раз подчеркнем, что любой живой организм, как обладающий, так и не обладающий психикой, может быть аффицируем не абстрактно внешней вещью, или стимулом, но тем и только тем, что так или иначе положено его собственной витальной активностью. Только теми «вещами» внешнего мира, которые так или иначе сформированы самим организмом. Применительно к человеческому сознанию более или менее, если и не общепринято, то во всяком случае - общеизвестно, что предметом человеческого сознания может быть то и только то, что так или иначе преобразовано человеческой практикой, на что эта человеческая практика успела наложить печать своей субъективности.
Так природа как целое до середины XX века оставалась исключительно либо предметом эстетического и философского, то есть принципиально целостного но своей природе созерцании, либо в качестве отдельных, вырванных из всеобщей природной взаимосвязи вещей, явлений или процессов - предметом специфически научного познания. Лишь в XX веке, когда совокупное техногенное воздействие на природу затронуло и угрожающе поколебало ее целостность, природа как конкретное единство в бесконечном многообразии ее мельчайших и на первый взгляд совершенно незначительных проявлений стала предметом научного и общественно-политического, экологического сознания человечества в целом, а, значит, опосредствованно через культуру и предметом индивидуального сознания наших современников.
Но этот же принцип, то есть «раздражимость» не абстрактным, но лишь своим-иным, действителен не только для человека, но и для всего живого вообще. Рассмотрим действие этого принципа на примере, который, на первый взгляд, ему очевидно противоречит и как будто подтверждает прямо противоположную точку зрения.
Возьмем аквариум с золотыми рыбками и с одного его края добавим в воду небольшое количество какого-либо токсичного вещества, например, коллоидного серебра. До тех пор, пока все коллоидное серебро не распределится посредством диффузии равномерно по всему аквариуму, рыбки будут предпочитать ту часть аквариума, где концентрация яда в данный момент наименьшая, чем явно и продемонстрируют нам факт своей раздражимости коллоидным серебром.
Между тем, ни сам факт присутствия в воде коллоидного серебра, ни характер его пространственного распределения в аквариуме нисколько не зависит от жизненной активности самих золотых рыбок. Следует ли из этого, что уже такой простой пример начисто опровергает всю нашу теоретическую конструкцию, толкующую о роли продуктивности живых организмов? И что восприятие рыбками коллоидного серебра есть феномен простой страдательной раздражимости?
Не будем, однако, спешить с выводами и подумаем, как вообще была бы возможна такая раздражимость рыбок именно коллоидным серебром, которого они скорее всего никогда не встречали в окружающей их среде ни за свою короткую индивидуальную жизнь, ни в филогенезе? Откуда у них могут взяться хеморецепторы, приспособленные к восприятию такого сугубо внешнего им химического агента как коллоидное серебро? (А, насколько нам известно, механизм действия белков, играющих центральную роль в механизме хеморецепции, реализует принцип замок-ключ, то есть форма опознаваемой молекулы должна достаточно совпадать с соответствующей формой белка-рецептора, а значит последний способен распознавать если и не одно единственное вещество, то, во всяком случае, весьма узкий класс таковых). Не предполагать же всерьез, что природа снабдила их такими хеморецепторами специально на тот случай, чтобы они могли продемонстрировать в нашим эксперименте свою способность к абстрактной раздражимости?
Между тем, разгадка «тайны золотых рыбок, предельно проста, и заключается она в том, что они в процессе своей жизнедеятельности выделяют в окружающую их водную среду специфическую слизь, способную связывать и осаждать множество природных органических и неорганических токсинов и тем самым защищать организм рыбок от контакта с ними. То есть и в данном случае речь идет о функции продуктивности живого организма, о том, что рыбки способны жить не в абстрактном внешнем пространстве, но в пространстве, сформированном их специфической активностью. Так вот, непосредственно хеморецепторы рыбки воспринимают и оценивают концентрацию не внешнего токсина, а собственной слизи, для чего, уже без всякой мистики, их можно полагать весьма хорошо приспособленными. Вот рыбки и устремляются в ту часть аквариума, где концентрация их слизи остается наибольшей, и тем самым демонстрируют нам свою способность активно относиться к данному токсину, полагать его в качестве своего предмета и двигаться «по его форме», то есть в данном случае против градиента его концентрации.
Точно так же необходимо опосредована продуктивностью и предметная активность растений. Так, растения активно испаряют воду в процессе транспирации и поэтому могут реагировать открытием или закрытием устьиц на изменение влажности в окружающей их среде. Вместе с тем, не обладая способностью к заметному активному теплопроизводству, они скорее всего реагируют закрытием устьиц не непосредственно на повышение температуры окружающей среды (скажем при лесном пожаре, как в примере, приводимом А.И. Леонтьевым), а на обусловленное ростом температуры относительное понижение парциального давления водяного пара.
И, наконец, последнее и самое существенное, что необходимо подчеркнуть, говоря о соотношении категорий продуктивности и предметности. Когда мы говорим, что субъект жизненной активности не может двигаться по форме абстрактного внешнего пространства, не формируя его своей жизненной активностью, не накладывая на внешний мир печать своей субъективности, и не превращая тем самым это внешнее пространство в пространство своей собственной предметности, в свой Umwelt мы этим вовсе не утверждаем, что субъективное предметное пространство есть какое-то особенное, трансцендентное объективному внешнему миру, природе как таковой пространство, и что активный живой организм сначала произвольно искажает объективные формы этого внешнего природного пространства, а затем движется уже в чисто субъективном пространстве, созданном его субъективным произволом.
Сама формирующая, продуктивная способность живого организма, будь то доклеточный пробионт, растение, животное или, наконец, Человек, есть непосредственно природная способность, а значит в процессе своей реализации она, будучи сама природной силой, не может исказить природные же, объективные формы внешнего мира, не говоря уже о том, что живой организм, живущий в конечном итоге в этом же внешнем природном мире, нуждается не в его искажении, а в «ориентировке» в нем, причем нуждается витально. Соответственно, воздействие его формирующей активности на внешний мир не искажает, а выявляет объективные формы природного мира, как бы выделяя курсивом те из них, которые жизненно значимы для этого живого организма.
Формирующая активность живого организма напоминает в этом смысле не цензора, произвольно в угоду своему субъективному вкусу и начальственным пожеланиям калечащего живую ткань художественного произведения, а умного и доброжелательного редактора, убирающего из рукописи все внешнее и случайное и помогающего тем самым выявиться личности самого автора. Поэтому субъективное предметное пространство живого организма есть по существу то же самое объективное, природное пространство, форма которого не искажена, а лишь подчеркнута формирующей активностью этого организма. Соответственно, и движение организма по форме его предмета, есть движение по форме, по логике объективного внешнего мира, ибо это просто одна и та же логика, одна и та же форма.
Несколько сложнее дело обстоит с упомянутыми выше пробионтами, да и наверное с многими из современных одноклеточных организмов. На первый взгляд, они, создавая локальный дефицит пищевого материала, двигаются вдоль локального градиента его концентрации безотносительно к объективной форме пищевого пространства, а значит, казалось бы, с равной вероятностью могут перемещаться как в сторону большей, так и в сторону меньшей его концентрации. Однако, если учесть, что, во-первых, у тех организмов, которые ориентированы своей активной стороной в направлении увеличения концентрации пищевого материала, т.е. вдоль положительного объективного градиента пищевого ноля, создаваемый их активностью локальный градиент будет большим, чем у организмов, ориентированных против этого объективного градиента; и, во-вторых, что пространственная ориентация этих организмов ввиду их незначительной массы будет постоянно меняться, то есть сами организмы будут постоянно находиться в состоянии броуновского движения, то у нас и получится, что в конечном итоге такие организмы будут смещаться по направлению к большей концентрации пищевого материала, то есть будут активно двигаться по объективной форме своего жизненного пространства.
Итак, движение по форме предмета, сформированного активностью самого организма, и движение по объективным формам внешнего мира есть одно и то же движение, ибо тождественны сами эти формы, а тождество этих последних коренится в природе формирующей активности живого субъекта, не искажающей, ибо в этом случае была бы невозможна сама жизнь организма во внешнем природном мире, но выявляющей эти объективные природные формы, подчеркивающей их.
Другой вопрос - насколько глубоко и многосторонне формирует живой организм свой предметный мир, и, соответственно, насколько адекватно он отражает внешний природный мир своей жизненной активностью?
Чтобы ответить на него, нам придется вслед за органической эволюцией перейти от анализа активности одноклеточных организмов сначала к природе активности многоклеточных животных, а затем и к предметной активности социальных образований.
Глава III. Рефлексивность
§1. От клетки к организму.
До сих пор мы рассматривали жизнь как активный процесс, то есть как специфическое активное взаимодействие между живыми, органическими телами и их неорганической или, точнее, внеорганической природой. При этом мы исходили из представления о самом живом организме как о некотором простом и далее неделимом теле, своего рода атоме или монаде жизни. И пока речь у нас шла либо о гипотетическом пробионте, либо об организмах одноклеточных такое представление было вполне адекватным во всяком случае в том смысле, что оно однозначно указывало на абсолютный логический предел анализа всех явлений жизни, на ту грань, за которой исчезает специфика собственно жизненных отношений и начинается область химизма.
Последний, то есть внутриклеточный или биохимизм, правда, тоже в известном смысле причастен к явлениям жизни и не является абстрактным или «чистым» химизмом. Разумеется, жизнь как таковая есть необходимый продукт эволюции чистого химизма, однако с момента ее возникновения сам этот химизм из ближайшей естественно-исторической предпосылки жизни становится ее следствием, а значит в своем конкретном движении уже в качестве биохимизма целиком обусловлен последней.
Логика отношения химизма к жизни здесь принципиально та же, что и отношение простого товарного производства к производству товарно-капиталистическому. Товар как таковой есть необходимая историческая предпосылка капитала. Однако, в своем наиболее развитом виде, в том виде, в каком он функционирует в системе товарно-капиталистического производства, он целиком есть продукт самого капитала, вне и независимо от которого он никогда не смог бы дорасти до нынешних развитых форм своего существования в виде бумажных денег, вексельного курса и т.д. То же самое можно сказать и о естественно-историческом развитии химизма как такового. Момент, когда эволюция химизма однажды породила жизнь на Земле, стал последним моментом в собственно химической эволюции. С этого времени развитие химизма стало возможным только в качестве побочного, снятого продукта развития жизни. Однако злоключения химической эволюции на этом не закончились. С момента возникновения на Земле жизни сознательной эволюция химизма была обречена на то, чтобы стать продуктом уже исключительно этой высшей формы жизни. Так, скажем, полиэтилен столь же мало может быть порожден абстрактно химическим, сколь и натуральным биохимическим движением.
Между тем, так же как в превращениях химических веществ в лабораторной колбе или заводском реакторе было бы нелепо искать законы социально-культурной жизни человека, точно так же бесполезно искать законы жизни во внутриклеточном химизме, ибо одно дело исследовать материальные, телесные механизмы, обеспечивающие абстрактную возможность жизни вообще или социально-культурной жизни, то есть их субстрат или материю, и совсем другое - конкретную, целостную систему взаимодействующих тел, включающую и интересующий нас предмет и сообщающую ему его форму или сущность.
До сих пор в качестве такой конкретной системы взаимодействующих тел, сообщающей органическому телу клетки форму жизни, мы рассматривали саму клетку и ее предмет. Диалектическое единство этой системы, сообщающей формальную, сущностную целостность многообразию сукцессивно и симультанно протекающих внутри клетки химических превращений, коренилось в том, что предмет активного взаимодействия не случайно находился клеткой в абстрактной «внешней среде», но необходимо полагался и противополагался жизнедеятельностью самой этой клетки.
Однако, анализируя активное отношение живой клетки к ее внеорганической природе, мы пока что абстрагировались от того обстоятельства, что даже древнейший пробионт, не говоря уже о современных одноклеточных, колониальных и отдельных клетках, составляющих собственно многоклеточные формы жизни, практически никогда не находился в абсолютном одиночество, но всегда разделял радости и тяготы жизни с мириадами подобных себе живых организмов.
Если предположить, что каждая отдельная клетка даже в составе развитых многоклеточных организмов жива, то есть находится в активном отношении со своим предметом, сама по себе, независимо от всех прочих клеток того же организма, то тогда последний, будучи механическим агрегатом живых клеток, был бы чем-то принципиально бесформенным, во-первых, постоянно рассыпающимся на отдельные безразличные друг другу элементы, и, во-вторых, живым не как этот цельный организм, а как всего лишь совокупность отдельных живых клеток.
Однако данное представление, будучи лишь ограниченно справедливым для одноклеточных и низших многоклеточных организмов, уже принципиально неверно применительно к высшим многоклеточным. Жизнь последних есть принципиально неделимая сущность и как таковая определяется активным, предметным отношением не отдельных клеток, а целого организма. Но это значит, что активность составляющих такой многоклеточный организм отдельных клеток необходимо опосредована активностью целого организма, а, следовательно, отдельные живые клетки в нем далеко не безразличны друг другу и находятся друг с другом в некотором специфическом морфогенетическом отношении.
Так, можно протереть живую губку через шелковое сито и тем самым разъединить и перемешать составляющие ее клетки, не повреждая их. Однако спустя некоторое время, составлявшие некогда целую губку амебоциты и жгутиконосные хоаноциты начнут агрегироваться в небольшие комочки, из которых со временем вновь образуются маленькие губки. При этом каждый специфический тип клеток займет в новообразовавшейся губке строго определенное его функцией место. Совершенно аналогично ведут себя клетки эмбрионов высших животных на ранних стадиях эмбриогенеза. Будучи искусственно диссоциированными, они реагрегируются вновь, причем, так же, как и в вышеприведенном случае, они в конечном итоге занимают предписанное им их функциональной специализацией место. То же самое происходит и в процессе естественного развития эмбриона, когда дифференцирующиеся в определенный тканевый тип клетки зародыша активно мигрируют внутри тела эмбриона дабы, объединившись с себе подобными клетками, занять в нем положенное им место.
Таким образом многоклеточные организмы отнюдь не являются некими аморфными, бесформенными агрегатами живых клеток, и, соответственно, они вовсе не стремится «рассыпаться» на составляющие их безразличным друг другу живые атомы, но напротив, очевидно являют собой ярчайший пример морфологической самоорганизации.
Да что говорить о многоклеточных, когда даже многие подвижные одноклеточные организмы, например та же хламидомонада, не просто абстрактно соседствуют друг с другом, но при некоторых условиях образуют своими телами высокоупорядоченные пространственные структуры.
Понятно, что клетки, принадлежащие многоклеточному организму, могут оставаться живыми только до тех пор, пока жив организм в целом, то есть до тех пор, пока он как это морфофизиологическое целое активно относится к своему предметному миру. Абстрактно верно и обратное, что и сам организм может оставаться живым лишь до тех пор, пока живы, то есть жизненно активны составляющие его клетки. Между тем, жизненная активность клетки многоклеточного организма принципиально отличается от активности изолированного одноклеточного организма. Своей метаболической активностью она так же постоянно создает локальный дефицит ассимилируемого ею питательного вещества в некоторой своей окрестности, но в отличие от свободноживущего одноклеточного, она не может отправиться за очередной порцией пищи по градиенту концентрации последней. Не может, даже если сохранила в процессе межтканевой специализации индивидуальные средства локомоции (жгутик или реснички), ибо ее удерживают в общем морфологическом строю некоторые морфогенетические силы. Более того, именно действию этих морфогенетических сил, обуславливающих целостность многоклеточного организма, а значит и его способность к видоспецифической жизненной активности, обязана своей абстрактно индивидуальной живостью каждая клетка такого организма, ибо только предметная активность целого организма может обеспечить добычу и доставку к каждой клетке ее пищевого материала.
Никакая предметная активность целого многоклеточного организма невозможна, если его тело будет подобно бесформенному расползающемуся студню, ибо у него просто не будет органов для такой активности. Но это и значит, что для того, чтобы такая активность была возможна отдельные его части должны быть связаны, упруго сцеплены друг с другом, что помимо активно-предметного отношения, в котором весь организм необходимо соотнесен со своими предметами, отдельные органические, живые части этого организма должны быть столь же необходимо связаны друг с другом морфогенетическими или рефлексивными отношениями. Рефлексивными, ибо в рамках этих отношений организм соотносится не с иным (хотя бы и своим-иным, каковым является для организма его предмет), а именно с самим собой.
Рефлексивные отношения, таким образом, оказываются необходимой предпосылкой, условием возможности предметно-активного отношения многоклеточного живого организма. Между тем в самом жизненном процессе из внешней и в известном смысле случайной предпосылки предметной активности они становятся необходимым ее следствием.
Каковы рефлексивные связи, сообщающие организму его конкретную форму, зависит теперь уже от характера его предметной активности.
В случае, если в качестве предмета своей активности данный организм может формировать лишь некоторое практически континуальное жизненное пространство, или, выражаясь гегелевским языком, некоторую среду-стихию, а следовательно, если жизненная активность организма выражается лишь в движении по градиентам этого пространства, то, вообще говоря, столь же абстрактными и малосодержательными будут и обеспечивающие такую активность рефлексивные отношения.
И наоборот, если пространством предметности организма является дискретное, вещно-оформленное жизненное пространство, то и обеспечивающие активность организма в таком пространстве рефлексивные отношения с необходимостью примут конкретный и диалектически противоречивый характер, а жизнедеятельность такого организма, понимаемая как конкретное единство предметного и рефлексивного отношений, примет характер психической деятельности, деятельности опосредованной психическим отношением.
Противоположность двух указанных типов предметного пространства и соответствующих им типов рефлексивных отношений соответствует противоположности растительной и животной форм жизни. Между тем обе эти формы жизни не только противоположны, но и тождественны друг другу уже хотя бы потому, что и та и другая форма суть форма жизни, жизни как таковой. Более того, есть основания полагать, (ниже мы остановимся на этом подробнее), что исходной, и в этом смысле всеобщей формой многоклеточной жизни является жизнь, опосредованная психическим отношением. Если это действительно так, то высшие формы психической активности, присущие развитым многоклеточным животным, есть продукт эволюционного развития этих исходных потенций многоклеточной жизни, в то время как растения и грибы утратили их в процессе своей эволюционной специализации.
Косвенным подтверждением такого предположения является факт существования миксомицетов. Этот поражающий воображение продукт органической эволюции успевает за свои жизненный цикл сменить три принципиально различные формы жизненной активности и соответственно три столь же принципиально различные формы телесности. В первой фазе он представляет собой сообщество активно двигающихся в поисках пищи амебовидных одноклеточных. Во второй фазе, после агрегации отдельных клеток в единое многоклеточное тело - плазмодий, последний начинает перемещаться но субстрату уже «... как единое целое. Активность отдельных особей в таких многоклеточных образованиях координирована»[24]. Иначе говоря, рефлексивные отношения, связывающие отдельные субактивные клетки в единый предметно активный организм, носят здесь динамичный, а следовательно противоречивый характер, что соответствует животному типу активности и позволяет нам предполагать наличие у плазмодия элементарной психики. И, наконец, в третьей фазе, когда многоклеточное тело миксомицета перестает ползти по субстрату и начинает дифференцироваться в длинную ножку с наполненным спорами плодовым телом на вершине, динамический ансамбль субактивностей сменяется однонаправленной ростовой активностью клеток, замыкающихся в жесткую целлюлозную оболочку. Иначе говоря, животный тип активности сменяется в этой фазе растительным ее типом, не нуждающемся для своей реализации ни в какой психической активности.
Для того, чтобы понять как вообще органическая эволюция могла породить миксомицеты - это грибо-животное организмо-сообщество, а заодно конкретнее представить себе природу животного типа активности в отличие от активности растительной, необходимо более подробно остановиться на природе рефлексивных отношений.
В ходе предыдущего анализа мы показали, что жизнь это прежде всего активный процесс, соотносящий органический субъект с его внеорганическим телом. Процесс этот, однако, разворачивается не в абстрактной пустоте, а в некотором конкретном местообитании, где наряду с данным организмом присутствует также множество особей как того же, так и других видов. При этом, между принадлежащими к различным видам отдельными организмами могут существовать три типа отношений.
Во-первых, одни из них могут служить предметом питания для других. Такие организмы связаны предметными отношениями, то есть их взаимоотношения, по крайней мере со стороны организма потребителя, суть проанализированная нами выше предметная активность. Во-вторых, различные организмы могут быть непосредственно безразличны друг другу, а значит просто не существовать друг для друга в качестве живых организмов. И, наконец, организмы различных видов, не будучи друг для друга предметом витальной активности, могут, тем не менее, быть небезразличны друг другу именно как организмы живые и активные. Симбиотические отношения, существующие между такими организмами, имеют место тогда, когда витальная активность одного из них так или иначе опосредует витальную активность другого. Само по себе симбиотическое отношение не является отношением предметной, или витальной активности, но опосредуя таковые, оно существенно ими определяется.
Что касается отношений между организмами одного и того же вида, то их, вообще говоря, можно разделить на те же три типа. Первые два из них, то есть взаимно предметные отношения, или отношения внутривидового каннибализма и взаимно безразличные, или нейтралистские отношения вряд ли играют существенную роль в эволюции жизни. Что же касается третьего типа, теперь уже не симбиотических, а внешних (в смысле экстракорпоральных) рефлексивных (ибо замкнутых на себя внутри одного и того же вида) отношений, то на них, ввиду их чрезвычайной важности следует остановиться особо.
Начнем с того, что любые клетки, не исключая и наши гипотетические пробионты, появляются на свет не в гордом одиночестве, но в паре с подобными себе организмами, изначально связанные с ними некоторым рефлексивным отношением. Само деление родительской клетки, представляющее собой скачкообразный переход химической рефлексивности в рефлексивность биотическую, полагает это отношение между дочерними клетками. Конкретное содержание этого отношения, по крайней мере, для неколониальных форм одноклеточных, равно как и для пробионтов, заключается во взаимном отталкивании дочерних организмов, обусловленном их взаимонезависимой, абстрактно-индивидуальной активностью.
Но если для пробионтов таким взаимным отталкиванием, по-видимому, и исчерпывается все содержание их рефлексивных отношении, то для эволюционно более развитых одноклеточных первичное отталкивание сменяется в какой-то момент взаимным притяжением. Очевидный пример последнего - половой процесс. Однако, сам но себе половой процесс есть весьма развитая формы рефлексивного отношения. Как таковой он вероятнее всего возник у организмов, у которые отрицательная рефлексивная связь уже успела смениться связью положительной, то есть у организмов, которые после их первичного расхождения не остаются безразличны друг к другу, но так или иначе группируются в некоторые относительно компактные сообщества (группы, «косяки», «стаи» и т.п.).
Биологический смысл образования таких компактных сообществ заключается по всей вероятности в кооперации активностей отдельных особей в формировании их общего предметного пространства. При этом конкретная форма подобной кооперации, конкретная совокупность связывающих организмы внешних рефлексивных отношений принципиально не могут быть поняты из самих себя, но только из совокупного предметного отношения, предметной активности входящих в сообщество организмов.
Развитие кооперированной предметной активности биологических сообществ и, соответственно, развитие их внешних рефлексивных отношении - один из магистральных путей биологической эволюции. От морфологически гомогенных сообществ одноклеточных, где форма активности всех отдельных особей подобна друг другу, он ведет по одной линии к морфологическим гетерогенным сообществам некоторых видов насекомых, у которых различие форы активности отдельных особей обеспечивается их далеко идущей морфологической специализацией, а по другой - к сообществам позвоночных, у которых морфологическая гетерогенность ограничивается половым диморфизмом, а рефлексивная связь отдельных особей обуславливается широкой вариативностью форм их индивидуальной активности.
И, наконец, еще одна линия развития внешних рефлексивных отношений - их переход во внутренние рефлексивные отношения, то есть переход от сообщества отдельных одноклеточных особей к собственно многоклеточному организму. Этот переход представляет для нас наибольший теоретический интерес, ибо в нем-то как раз и происходит впервые переход об абстрактной жизни к жизни, опосредованной психической активностью.
Любой организм живет и остается живым поскольку он формирует свое жизненное пространство и одновременно движется по его форме. Для одноклеточных организмов при этом не возникает серьезных противоречий между их продуктивностью и предметностью. Совсем иное дело многоклеточные организмы, для которых возникновение и преодоление такого противоречия является законом их существования.
Представим себе некий гипотетический организм, состоящий из двух еще не успевших специализироваться, а следовательно обладающих средствами индивидуальной локомоции, например жгутиками, клеток. Каждая из них своей активностью будет так или иначе формировать прилегающую к ней часть пространства местообитания, создавая в нем градиенты некоторых жизненно значимых факторов и стремиться продвинуться по этим градиентам. В общем случае сама форма такого двухклеточного организма скажется в том, что вышеназванные градиенты будут направлены в противоположные стороны, а значит обе клетки будут усиленно шевелить своими жгутиками, пытаясь продвинуться по этим созданным их же жизненной активностью градиентам в диаметрально противоположных направлениях.
Если морфогенетические силы, удерживающие обе клетки в составе единого организма, окажутся недостаточными, то наш гипотетический двухклеточный организм просто не выдержит такого испытания на прочность, и вместо одного двухклеточного мы в итоге получим два независимых друг от друга одноклеточных организма. Однако подобный, сам но себе весьма вероятный исход, не представляет для нас интереса, ибо эволюционно он не ведет к многоклеточной форме жизни, в то время как нас в настоящее время интересует именно она.
Следовательно, мы будет исходить из предположения, что связь двух субактивных элементов рассматриваемого нами организма достаточно прочно удерживает их в составе единого целого.
Если среда обитания нашего двухклеточного организма абсолютно гомогенна, то формирующая активность обеих клеток в общем случае породит на его полюсах равные и противоположно направленные градиенты и в результате мы получим классическую ситуацию «буриданова осла». Организм как целое останется неподвижным, а субактивность двух его клеток со временем угаснет, то есть организм вместе с обеими своими клетками погибнет. Однако допущение абсолютно гомогенной среды само по себе достаточно произвольно. Действительная натуральная среда, натуральное жизненное пространство практически нигде и никогда не достигает мертвой и повсюду равной себе гомогенности. Но это значит, что даже одинаковая формирующая сила двух противоположных клеток одного организма будет необходимо формировать на его полюсах существенно различные предметные подпространства, подпространства разной кривизны, характеризующиеся различными не только по направлению, но и по абсолютной величине предметными градиентами.
Между тем, целый организм существует не в абстрактной совокупности предметных подпространств своих органов, но в едином жизненном пространстве, а значит, чтобы жить и оставаться живым организм как целое должен двигаться но предметной форме этого своего жизненного пространства, форме совпадающей с объективной формой внешнего мира. Иначе говоря, живым может остаться лишь тот организм, внутреннее противоборство субактивных органов которого закончится «победой» одного из них, субактивность которого на какое-то время примет определение ведущей или доминантной субактивности, совпадающей с активностью организма как целого, а субактивность всех остальных органов (т.е. в примере с гипотетическим двухклеточным организмом - субактивность второй клетки) будет на то же время либо заторможена, либо как-то скоординирована с предметной активностью целого организма.
Таким образом, если подвижные примитивные одноклеточные организмы лишь в конечном итоге, благодаря действию на них внешних возмущающих сил, случайно меняющих их ориентацию в физическом пространстве, могли перемещаться по объективной форме своего предметного мира, то организмы многоклеточные, многосторонне формируя свое предметное пространство, могут перемещаться по его объективной форме уже независимо от любых внешних им как живым организмам воздействий. Эта их способность целиком обусловлена тем, что внешняя, или собственно предметная активность таких организмов существенно опосредована их самонаправленной, или рефлексивной активностью.
Иначе говоря, уже на уровне организма, состоящего из двух субактивных элементов, связанных некоторым рефлексивным отношением, мы имеем живой телесный субъект, активность которого носит многомерный, многовекторный характер. Формирующая активность такого субъекта избыточна, а значит предоставляет ему абстрактную возможность для более адекватного действия по форме предметного поля. Так, животные, обладающие развитой зрительной системой могут строить свою активность в соответствии с видимым предметным пространством потому, что их зрительная система состоит не из одного, но из множества симультанно субактивных элементов, рефлексивное отношение которых снимается в виде ведущей ощупывающей субактивности глаза и головы, но отнюдь не устраняет их вовсе.
Интересно в этой связи отметить, что со способностью тела не к одному движению или действию, а к «большому числу одновременных действий или страданий»[25] Спиноза связывал со способностью его души «к отчетливому пониманию».
§2. Ансамбль субактивностей
Предметная активность целого организма не существует вне и помимо субактивностей его органов. Она не есть некий чрезвычайный прибавок к этим субактивностям, но всегда совпадает с какой-то одной из них, полагая ее в качестве всеобщей или ведущей субактивности, непосредственно тождественной в данный момент с активностью целого организма.
Любая субактивность, включая и ведущую, любого органа многоклеточного организма есть вещь глубоко диалектическая. Она представляет собой одновременно и активное действие, направленное на внешний предмет, и рефлексивное действие, направленное на орган этого действия. Точнее не на абстрактный протяженный орган, а на его противоположно ориентированный субактивный элемент. Иначе говоря, отношения предметной активности и рефлексивные отношения многоклеточного организма, будучи противоположно направленными и непосредственно противоречащими друг другу отношениями, в то же самое время столь же непосредственно тождественны друг другу. Акт их взаимоограничения является в то же самое время актом их взаимополагания.
Исходная морфогенетическая связь двух клеток в нашей двухклеточный модели есть не рефлексивное, а некоторое случайное, внешнее отношение двух клеток до тех пор, пока мы абстрагируемся от жизненной активности этих клеток. Однако подобная абстракция ложна, ибо в реальной абстракции от их жизненной активности клетки были бы просто мертвы. Поэтому действительное морфогенетическое отношение, будучи всегда отношением минимум двух активных элементов, двух субактивностей есть отношение рефлексивное.
Между тем, диалектика активности и рефлексивности не ограничивается только тем, что они просто полагают друг друга в качество неких абстрактных противоположностей. Биологический, эволюционный смысл их диалектики заключается в том, что они конкретно, содержательно определяют друг друга.
Так, абстрактная активность двух клеток в нашей модели полагает некоторую случайную морфогенетическую связь в определение рефлексивного отношения. Но само это рефлексивное отношение не исчерпывается целиком своим отрицательным моментом, то есть взаимным противодействием двух субактивностей, но необходимо полагает и некоторое положительные содержание, модифицируя эти субактивности, меняя интенсивность и направленность каждой из них. В свою очередь новая система субактивностей полагает новый характер их рефлексивных отношений, которые, в свою очередь, вновь модифицируют, перестраивают саму систему субактивностей и так до бесконечности. Вернее до тех пор, пока жив данный организм.
Рефлексивное отношение, говоря кибернетическим языком, реализует функцию обратной связи и оперативной самонастройки действующего организма. На языке Спинозы, как и на языке современной психологии, эта же функция называется аффектом.
«Под аффектом, - говорит Спиноза, - я разумею состояния тела (corporis affections), которые увеличивают или уменьшают способность самого тела к действию, благоприятствуют ей или ограничивают ее, а вместе с тем и идеи этих состояний.»[26]
Жизнь организма, реализующего в процессе своей жизнедеятельности не только активное, но и рефлексивное отношение, представляет собой принципиально целостный жизненный процесс, структурными элементами которого являются не отдельные неподвижные морфологические единицы - клетки или многоклеточные органы, и тем более не абстрактные физиологические процессы, но активные, предметные процессы. Причем процессы не безразличные друг другу, но активно друг с другом взаимодействующие, друг друга определяющие так, что в итоге они составляют единый диалектический ансамбль.
Жизнь такого организма, рассматриваемая в его отношении к предметному миру, есть экстра- или интракорпоральное предметное ощущение, спинозовское действие по форме предмета, или интеллект, а, взятая в его отношении к самому себе, - интероцептивное самоощущение, составляющее чувственную ткань предметного образа, самонаправленная рефлексивная активность, или аффект.
Жизнь организма, предметная активность которого есть его снятое отношение к самому себе, а его отношение к самому себе есть его снятая предметная активность, есть жизнь, опосредованная психикой. Само диалектическое отношение, в котором организм активно относится к своему предмету, лишь относясь к самому себе как к живому организму, и наоборот, лишь тогда находится в рефлексивном отношении с самим собой, когда активно формирует свой предмет и движется по его форме, есть психическое отношение, или психика как таковая.
Перефразируя известную мысль Льва Семеновича Выготского, можно сказать, что психика, или психическое отношение есть там и только там, где за предметным отношением живого организма стоит аффект, а за аффектом - предметное отношение.
Данное определение сущности психики в современной литературе, пожалуй, более всего перекликается с точкой зрения В.П. Зинченко.
«Соотношение движения и психики, - пишут Н.Д. Гордеева и В.П. Зинченко, - проступает настолько отчетливо, что его можно представить по аналогии с рассуждениями А.Ф. Самойлова: «Наш известный ботаник К.А. Тимирязев, анализируя соотношение и значение различных частей растения, воскликнул: «лист - это есть растение!» Мне кажется, что мы с таким же правом могли бы сказать: «Мышца - это есть животное!» Мышца сделала животное животным, мышца сделала человека человеком». Точно также можно сказать, что живое движение - это есть психика!
... живое движение обладает необходимыми и достаточными свойствами, чтобы его можно было принять в качестве исходной единицы психической реальности» [27].
Живое движение В.П. Зинченко понимает как активное, предметное движение. В представлении о таком движении и о его фундаментальной роли для понимания жизни и психики размышления В.П. Зинченко напрямую восходят к идеям Н.А. Бернштейна. Последнему, между прочим, принадлежит гениальная, на наш взгляд, мысль о том, что «физиология активности» со временем войдет в более широкую «биологию активности».
В контексте вышеизложенного, нам, однако, представляется не вполне точным определение, ставящее знак равенства между абстрактным «живым движением» и «психической реальностью». Следуя ему нам либо придется признать движения активных одноклеточных организмов и многоклеточных растений неживым, либо, признавая эти движения «живыми», мы окажемся перед необходимостью постулировать наличие психики, пусть самой что ни на есть элементарной, и у одноклеточных, и у растений.
В первом случае, то есть, отрицая активный, предметный характер движении одноклеточных и растений, мы теряем теоретический критерий, позволяющий нам отличать жизненный процесс от процесса абстрактно химического. Принимая же вторую альтернативу, мы обессмысливаем само понятие психического движения, сводя последнее лишь к одной его абстрактной, хотя и всеобщей в своей абстрактности стороне - к движению по форме предмета, или на психологическом языке к абстрактно когнитивной стороне психического движения.
Разумеется, не следует и преувеличивать различие нашего определения сущности психики и определения, приводимого В.П. Зинченко, ибо под живым движением он очевидно понимает движение животного многоклеточного организма, которое в снятом виде уже содержит в себе диалектику активности и рефлексивности. Однако не проанализировав эту диалектику в самом абстрактном виде, он, как нам представляется, грешит абстрактностью уже в своем афористическом определении сущности психики, или психической жизни, невольно отождествляя ее с определением жизни вообще.
Этим же недостатком страдает, на наш взгляд, и определение А.Ф. Самойлова: «Мышца - это есть животное!» Понятно, что в этом образном определении речь идет о мышце не столько как об определенном морфологическом образовании, сколько как об органе активного, направленного на внешний мир действия. Но, во-первых, способностью к такому действию помимо наделенных мышцами животных обладают также и примитивные многоклеточные животные и растения, активность которых обеспечивается жгутиковой, амебоидной и т.п. субактивностью составляющих их живых клеток, и высшие растения, механизм активных движений которых еще менее напоминает мышцу. И, во-вторых, даже если ограничиться определением специфики жизни только тех животных, которые обладают мышцами как таковыми, вышеприведенное определение А.Ф. Самойлова необходимо переформулировать следующим образом: «Система из (по крайней мере) двух реципрокных мышц - это есть животное!»
В более-общем виде можно сказать, что если логический предел делимости живого организма, атом жизни - это живая клетка, то соответствующий логический предел делимости обладающего психикой живого организма, атом психически опосредованной жизни - это система, состоящая как минимум из двух субактивных элементов, в роли которых могут выступать две субактивные клетки, две реципрокные мышцы и т.п., направленные на предмет.
Между тем конкретный организм всех позвоночных состоит не из абстрактных пар субактивных элементов, но представляет собой строго иерархизированную систему мышечных органов, в которой высшее и ведущее положении занимает локомоторно-манипулятивная система, построенная из реципрокных пар поперечнополосатых мышц, а низшее и подчиненное - система полых гладкомышечных органов - желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистая система, мочевой и желчный пузырь.
Первая из них обеспечивает экстракорпоральную предметную активность организма и, соответственно, внешнее предметное ощущение. Вторая - интракорпоральную предметную активность и висцеральные ощущения. Филогенетически висцеральная система восходит к древнейшим организмам типа кишечнополостных, у которых она реализовывала их внешнепредметную активность и, соответственно, служила субстратом их предметного психического отношения. С возникновением в ходе эволюции высшей локомоторно-манипулятивной системы, способной обеспечить куда более универсальную и богатую систему активности, чем система висцеральная, эта новая, то есть скелетно-мышечная моторика стала реализовывать активное отношение организма к его внешнему предметному миру, а за древней висцеральной моторикой закрепилась функции «внутренней», интракорпоральной предметной активности. В этом смысле появление скелетно-мышечной моторики знаменует собой не возникновение предметной активности и психики как таковой, но всего лишь закономерный этап в их поступательном развитии.
Историческое и логическое соотношение двух этих видов активности были, как нам представляется, принципиально неверно изображены в известной гипотезе А.В. Запорожца и А.Н. Леонтьева.
В своей гипотезе они исходили из совершенно ложного представления, согласно которому животная форма жизни эволюционно произошла от формы растительной. Исходя из этого представления они утверждали, что переход от растительной к животной форме жизни, который они связывали со сменой предмета питания с растворов солей, газов и солнечной энергии, на вещно оформленную органическую пищу приводит к тому, что «единый ранее процесс жизни как бы раздваивается. С одной стороны, сохраняются функции отправления, которые осуществляют непосредственные взаимоотношения организма со средой и одинаково присущи и растениям, и животным. С другой стороны, у животных, которые существуют, будучи отделены и уделены от дискретных, вещно-оформленных источников их жизни, развиваются новые формы сношения с внешним миром - функции поведения»[28].
Последние «...в отличие от функций отправления... приходится в процессе их реализации постоянно приноравливать к сложным и меняющимся внешним обстоятельствам. Вследствие этого для их регуляции требуются более высокие формы отражения действительности, требуется формирование образа, снятие слепка с предметных условий действия для того, чтобы точно приурочить последнее к конкретным условиям.... Иначе говоря, совершается переход от простой раздражимости к чувствительности.
Можно сказать, что первая и основная жизненная роль чувствительности заключается в обслуживании двигательного поведения животных»[29].
Итак, с точки зрения А.В. Запорожца, во-первых, реализуемая функциями отправления растительная жизнь есть не предметно активный, а следовательно чисто страдательный процесс, во-вторых, необходимой предпосылкой самой возможности «двигательного поведения» является наличие чувствительности, то есть хотя бы элементарной психики. И, наконец, органом такого направленного на внешний мир поведения может являться исключительно «скелетная поперечнополосатая мускулатура», которая развивается у животных лишь постепенно из мускулатуры гладкой, являющейся генетически более ранним образованием и осуществляющей по преимуществу отправленческие, вегетативные функции»[30].
Не станем повторять наших аргументов в пользу того, что жизнь, и животная, и растительная, но может ни возникнуть, ни существовать и развиваться, не будучи процессом предметно активным, и что предметная активность всегда так или иначе связана с внешнепредметной, или экстрасоматической подвижностью, будь то локомоция животных, или, хотя бы, ростовая подвижность растений. Укажем только на очевидное противоречие во взглядах А.В. Запорожца, у которого получается, что, с одной стороны, чувствительностью, или психикой необходимо должны обладать по крайней мере все подвижные животные, начиная с одноклеточных, но, с другой стороны, большинство из них, а именно, почти все беспозвоночные, за исключением членистоногих, но могут обладить психикой, ибо, если они вообще располагают какой-либо мускулатурой, то не поперечнополосатой, а гладкой - «осуществляющей по преимуществу отправленческие, вегетативные функции».
Впрочем, все эти противоречия и парадоксы легко устраняются, если перевернуть заданную А.В. Запорожцем и А.Н. Леонтьевым логическую последовательность и исходить из того, что не абстрактно-вегетативное, страдательное отправление породило активное поведение животных, а, наоборот, первой и всеобщей формой жизни была именно внешнедвигательная активность или «поведение», а пресловутые отправления есть не что иное, как снятая и забранная внутрь организма его экстрасоматическая предметная активность.
§3. От вольвокса к человеку
Начнем с того, что первые многоклеточные организмы, безразлично животной или растительной природы, скорее всего походили на ценобии или колонии современных вольвоксовых зеленых водорослей, то есть имели форму, варьирующую от плоского однослойного клеточного диска, до правильного полого шара. Клетки подобных организмов обладали ориентированными наружу жгутиками, совместная координированная активность которых позволяла всему организму активно перемещаться в водной среде. При этом каждая из клеток таких организмов питалась вполне самостоятельно, а общая предметная активность организма в целом, опосредованная рефлексивным отношением его субактивных элементов - клеток, обеспечивала направленную локомоцию всего организма но градиенту концентрации пищевого материала[31].
У таких организмов (безразлично были ли они авто- или гетеротрофными, т.е. относим ли мы их к растениям или животным) можно в соответствие с данным нами выше определением, предположить наличие чувствительности, или элементарной психики. Ее содержанием является некоторое малодифференцированное ощущение предметного поля, выраженное в форме столь же малодифференцированного общетелесного самоощущения, или аффекта. Заметим однако, что отмеченная нами малодифференцированность как предметной, так и аффективной проекций его психической реальности является таковой лишь в сравнении с более дифференцированными ощущениями и аффектами более высокоорганизованных животных, но никак не для самого этого организма. Сама по себе она должна быть вполне достаточной для того, чтобы обеспечивать предметную активность данного организма, его активную ориентировку в пространстве его предметности.
Дальнейшая эволюция этих элементарных многоклеточных организмов приводит к тому, что растительные, или автотрофные формы утрачивают чувствительность, тогда как формы гетеротрофные идут по пути дальнейшего ее развития. Это различие коренится в различном характере предмета их активности, а следовательно и в различии свойственных им, как многоклеточным организмам, рефлексивных отношений.
Предметная активность растений в их практически континуальном (не дискретном) предметном пространстве ставит перед ними куда более простые двигательные задачи, чем те, которые приходится решать животным. И эти задачи в процессе эволюции растения приспособились решать посредством не локомоторной, а ростовой активности, или различных тропизмов. Поступательное ростовое движение растительного тела реализуется однонаправленным ростом и растяжением его живых клеток, а его изгибы тем, что клетки с одной стороны стебля или корня удлиняются за счет их роста или повышения в них внутриклеточного тургорного давления, в то время как клетки на противоположной стороне не растут или теряют тургор. При этом активности растущих или наращивающих свой тургор клеток противостоит не противоположно направленная субактивность других живых клеток растении, а чисто механическое упругое сопротивление как собственных, так и всех прочих жестких целлюлозных стенок, замыкающих растительные клетки и исключающих их непосредственное живое рефлексивное отношение.
Поэтому, если даже и рассматривать ростовую активность каждой растительной клетки как субактивность, то система таковых будет представлять собой абстрактную совокупность однонаправленных субактивностей, рефлексивное отношение которых есть не живой диалектический процесс, а раз и навсегда застывшее, буквально одеревеневшее отношение.
В этом смысле в высшей степени характерно, что и на одноклеточной стадии, и на стадии активно ползущего плазмодия амебовидные клетки миксомицета лишены целлюлозной оболочки, но она тотчас появляется, как только активность миксомицета принимает абстрактно растительный, ростовой характер.
Понятно, что живые организмы, предметная активность которых опосредована раз и навсегда данным «деревянным» рефлексивным отношением, не обладают способностью, да и не нуждаются ни в какой чувствительности, или психике. Совсем иное дело - пластичные тела животных с их живым, динамичным и диалектически противоречивым рефлексивным отношением.
Рассмотрим губку, одно из наиболее примитивных из всех существующих на сегодняшний день многоклеточных животных. Губка представляет собой полый мешок с открытой горловиной и с многочисленными порами, соединяющими ее внутреннее пространство с окружающей средой. Взрослая губка ведет сидячий образ жизни, но при этом согласованное биение жгутиков, выстилающих ее внутреннюю поверхность клеток-хоаноцитов, создает постоянный ток воды через нее. Взвешенные в воде микроскопические организмы фильтруются на ее порах и поглощаются клетками-амебоцитами.
Спрашивается, являются ли биения жгутиков «поведением» или «отправлением» и, соответственно, являются ли они предметно активным или лишь страдательным процессом?
Нам представляется, что ответ на этот вопрос совершенно однозначен - конечно предметно активным, и конечно «поведением». Для живущего в водной среде и питающейся микроорганизмами животного вроде губки в принципе имеется альтернатива: либо самому активно двигаться относительно водной среды по градиенту концентрации микроорганизмов, либо прогонять эту среду через себя и, фильтруя ее, повышать концентрацию таковых в своей внутренней парагастральной полости. Последний способ избрала эволюция для губки.
Самое существенное в данном примере с губками то, что ее «внутреннее» парагастральное пространство есть пространство ее предметности, пространство, в котором только и существует ее Umwelt (последний в данном случае, правда, впору переименовать в «Innenwelt»). Соответственно, ее «внутренняя», интракорпоральная активность есть не что иное, как забранная внутрь внешнепредметная, экстракорпоральная активность.
Любопытно, что последнее утверждение является не просто абстрактно логической спекуляцией, но эмпирической реальностью. К концу своего эмбрионального развития, протекающего в теле взрослой губки, ее зародыш через свой специфический «рот» «... выворачивается «наизнанку», а затем, пройдя слой хоаноцитов, попадает в систему внутренних каналов родительской особи и, наконец, выходит в воду в виде свободно плавающем личинки. В результате выворачивания жгутики оказываются на наружной поверхности: с их помощью личинка плавает. В конце концов, она прикрепляется передним концом к дну, и часть ее поверхности, покрытая жгутиками, впячивается внутрь задней половины, так что образуется двухслойный мешок. Попавшие внутрь клетки, снабженные жгутиками, становятся хоаноцитами, а из наружного слоя образуется все остальное тело губки[32]«. Так, «внутренняя» активность юной губки непосредственно переходит в ее «внешнюю» активность и обратно. Так, «отправление» переходит в «поведение» и наоборот.
Эволюция как будто специально создала и сохранила до наших дней губку, чтобы наглядно продемонстрировать нам генетическое тождество «внешней» и «внутренней» предметной активности, тождество так называемых «поведения» и «отправления».
Следующими на эволюционной лестнице из существующих сейчас многоклеточных животных стоят кишечнополостные и гребневики. У организмов этих типов экстра- и интракорпоральная активность уже в значительной степени дифференцированы и закреплены за различными органами. Так, внешняя предметной активность гребневиков, состоящая из активной локомоции и примитивной манипуляции, реализуется за счет биении гребных пластинок, представляющих собой ряды слившихся ресничек эпителиальных клеток и движений пары примитивных щупалец. У гидры - типичного представителя кишечнополостных, ведущей сидячий образ жизни, внешняя предметная активность реализуется многочисленными щупальцами и удлинением-сокращением всего ее тела, а внутренняя - за счет биении жгутиков некоторых клеток энтодермы и опять-таки за счет сокращения и вытягивания всего тела особи, создающих необходимую для эффективного пищеварения циркуляцию содержимого гастроваскулярной полости.
Таким образом, у гидры экстра- и интракорпоральная активности реализуются отчасти за счет одного и того же механизма - сокращения мышечных волокон, лежащих у основания эктодермальных клеток и ориентированных вдоль тела особи и энтодермальных клеток, образующих кольцевые мышечные волокна. Активность этих мышечных волокон в отношении к внешнему миру образует нечто вроде локомоторно-манипулятивной подвижности, а в отношении к содержимому гастроваскулярной полости - желудочно-сосудистую перистальтику.
Естественно, что когда гидра распрямляет и вытягивает свои щупальца, чтобы захватить ими парализованную ее стрекательными нитями добычу, во-первых, субактивности сократительных волокон ее щупалец должны быть определенным образом координированы и, во-вторых, само тело гидры в этот момент должно, по крайней мере, не укорачиваться. Поэтому внешнепредметная активность гидры должна опосредоваться строго иерархизированной системой рефлексивных отношений, из которых рефлексивные отношения органов внешнедвигательной предметной активности занимают высшее положение по отношению к системе рефлексивных отношений, обеспечивающих внутрителесную, перистальтическую активность и, следовательно, может на время притормаживать спонтанную активность последней, дабы она не мешала реализации внешнедвигательной задачи.
Такое же рефлексивное отношение высших и низших органов активности, или, соответственно, высших и низших уровней рефлексивности сохраняется и у высших многоклеточных животных, у которых внешнепредметная активность реализуется системой скелетных поперечнополосатых мышц, а внутрипредметная активность - системой кольцевых гладкомышечных структур.
Рефлексивные отношения, опосредующие предметную активность таких кольцевых структур, являются филогенетически более старым и примитивным образованием, чем рефлексивные отношения реципрокных мышц внешних эффекторов. Соответственно, от этих висцеральных систем животное и получает не ясные и отчетливые «предметные» ощущения, а ощущении, в которых предметная и интероцептивная стороны субъективно неразличимы.
У здорового, покоящегося в данную минуту животного спонтанная субактивность всей его висцеральной системы принимает на себя функцию его ведущей активности, а ощущения от этой системы выступают в роли общего телесного самоощущения.
Впрочем, отдельные органы висцеральной системы могут брать на себя преимущественную роль ведущей субактивности или, если и не ведущей, то, во всяком случае, занимать аномально высокое место в иерархии всех субактивностей. Последнее имеет место, во-первых, в случае болезни какого-либо внутреннего органа, когда животное в процессе своей внешнепредметной жизнедеятельности вынуждено строить ее таким образом, чтобы причинять как можно меньше беспокойства больному органу, и, во-вторых, у некоторых из тех животных, чья индивидуальная активность содержательно опосредована внешними рефлексивными отношениями с особями его вида. Так, скажем, животное, метящее охотничью территорию своей мочой или экскрементами, должны достаточно отчетливо ощущать наполненность мочевого пузыря и прямой кишки. Поэтому, между прочим, включая животных в систему рефлексивных отношений с человеком, можно легко добиться чистоплотности от собаки и невозможно - от самой что ни на есть интеллектуальной и «воспитанной» птицы, у которой данный вид органического самоощущения в природе не опосредован внешними рефлексивными отношениями.
Филогенетическая древность висцеральной активности сказывается не только в ее более примитивном строении, но и в ее абстрактно спонтанном характере. Так, сердце, сосуды и пищеварительная система постоянно пребывают в состоянии более или менее выраженной активности, и то время как «произвольная» скелетная мускулатура может на долгое время расслабляться и по видимости не является спонтанной.
Так, вид сердца, продолжающего биться даже после того, как оно было извлечено экспериментатором из тела животного, побудил знаменитого французского врача и физиолога XVIII века Борде придти к, на первый взгляд, наивному, но на самом деле глубоко диалектическому представлению, согласно которому все спонтанно субактивные внутренние органы есть животное в животном, «Animal in animali».
В отличие от Глиссона, который ввел в физиологию понятие раздражимости, Борде признавал только одно жизненное свойство - общую чувствительность, которая по Борде есть «всякое нервное действие, сопровождающееся движением, даже когда животное не имеет об этом никакого восприятия». От этой общей чувствительности, основание которой одинаково для всех органических частей животного, Борде различал еще собственную чувствительность для каждого из этих частей, или органов.
«Каждая железа, каждый нерв, - писал он, - имеют особый вкус. Каждая организованная часть живого тела имеет свой способ существовать, действовать, чувствовать и двигаться; каждая имеет свой вкус, свою структуру, свою форму, внутреннюю и внешнюю, свой вес, свой совершенно особый способ расти, растягиваться и стягиваться; каждая существует своеобразно и своим особым участием в совокупности всех функций и общей жизни, каждая, наконец, имеет свою жизнь и свои функции, отличные от всех других»[33].
В данном фрагменте доктор Борде с поистине ренессансным вкусом и вниманием к человеческой плоти описывает то, что мы выше определили как ансамбль субактивностей, а А.Н. Леонтьев констатировал как «совмещенность модальностей»[34] в психическом образе, как его, образа, многомерность.
Между тем, специфический характер висцерального пласта в психике homo sapiens поразил воображение не одного Борде. Двумя веками позже другой врач объявил висцеральную систему краеугольным камнем всей человеческой психики. Надо ли говорить, что для этого у Зигмунда Фрейда были достаточно серьезные фактические основания?
Впрочем, конкретный анализ роли глубинной (от лат. viscerum) скрипки (точнее было бы – барабана) в оркестре человеческой психики нам еще предстоит впереди. Пока же ограничимся двумя предварительными замечаниями на эту тему.
Во-первых, в контексте сказанного выше, очевидно, сколь значительную роль в аффективно-эмоциональной сфере животного (включая и человека) должна играть висцеральная сфера, ибо ни одно экстрасоматическое действие не может быть реализовано без «предварительной договоренности» с висцеральной системой, без ее своеобразной санкции. (Своеобразную в высшей степени наглядную модель подобной диалектики отношений экстрапредметной и интрасоматической моторики мы имеем у гидры.)
Во-вторых, партитуру, включая партию висцерального барабана, в оркестре человеческой психики пишет культура.
Выше мы указали на скелетную мускулатуру как на по-видимости не спонтанное образование. Между тем, такая оценка фиксирует лишь тот внешний факт, что для того, чтобы обеспечить предметную активность организма в предметном пространстве куда более сложном, чем внутрижелудочное, спонтанная[35] активность отдельных моторно-мышечных элементов скелетной мускулатуры должна быть весьма жестко «дисциплинирована» связывающими их рефлексивными отношениями. Но вышеупомянутая «дисциплина» ни в коей мере не отменяет спонтанную природу ведущей субактивности, а значит и активности в целом.
Впрочем, подробнее на проблеме спонтанности мы остановимся несколько ниже, а теперь перейдем к обсуждению диалектики продуктивности и предметности уже не в среде-стихие, а в вещно оформленном жизненном пространстве.
Начнем с того, что активное действие многоклеточного животного, или его действие по форме предмета есть не одномоментный акт, а длящийся во времени процесс, в котором предметное и рефлексивное отношения все время взаимополагают и снимают друг друга. Такой процесс, в котором субъект действия активно относится к иному, лишь, находясь все время в рефлексивном отношении к самому себе, есть ни что иное, как натуральная рефлексия. Такая натуральная рефлексия, формирующая, с одной стороны, на одном полюсе предмет психического восприятия, а, с другой стороны, на другом полюсе, динамический орган этого восприятия, некоторую конкретную систему субактивностей, выступает как «ощупывающее» действие. Абстрактно внешняя вещь, даже принадлежащая к его видовому Umwelt принципиально не может стать предметом животного, стать предметом его психического восприятия, если абстрактно активное движение животного лишь скользит но поверхности внешней вещи, не зацепляя и не преодолевая ее сопротивления, т.е. не формируя саму эту вещь в качестве предмета своего восприятия, и в то же время не превращая абстрактно-активное, или импульсивное движение в собственно активное действие.
Под импульсивным движением мы понимаем такое спонтанное действие, которое еще не столкнулось с внешним ограничением[36], а потому реализуется системой однонаправленных субактивностей. (У Н.А. Бернштейна такому импульсивному движению соответствует понятие «реактивного» движения).
Абстрактная система субактивностей, составляющая субстрат такого импульсивного движения в момент столкновения с внешним препятствием трансформируется в некоторую конкретную, хотя еще по необходимости и малосодержательную систему субактивностей, которая будучи спроецирована вовне, образует некоторое недифференцированное предметное ощущение, ощущение чего-то внешнего, или «НЕЧТО», а, будучи спроецирована вовнутрь, столь же недифференцированное телесное самоощущение, абстрактное страдание, или аффект боли. (Подчеркнем, что даже столь страдательное чувство как боль, есть продукт активного, хотя и бедного определениями, т.е. абстрактного действия!).
Что произойдет вслед за этим первым контактом животного с предметом, зависит, вообще говоря, от более широкой системы рефлексивных отношений, обусловившей само исходное импульсивное движение. Системы, включающей либо только ансамбль субактивных единиц органического тела отдельной особи, либо ансамбль субактивных особей в рамках некоторой биологической группы.
Если конкретный рисунок рефлексивных отношений, обусловивших исходный импульс, будет полностью разрушен и замещен их новой конкретной системой, возникшей в результате встречи с предметом, то животное просто удалится от источника боли, а значит акт натуральной рефлексии прервется на самой первой, а потому всего лишь страдательной фазе. Напротив, если исходный аффект силен и устойчив настолько, что не будет разрушен страдательным аффектом боли, то акт натуральной рефлексии будет разворачиваться и дальше, все более и более определяя на одном полюсе все более и более ясный и отчетливый психический образ предмета, а на другом - вес более и более активный аффект.
Но это значит, что животное в последовательном ряде опробующих движений будет двигаться «по форме» встреченного им препятствия, не разбиваясь о него, и не ломая само это препятствие, но вместо с тем и не скользя по его поверхности, формируя тем самым это поначалу абстрактно внешнее препятствие в качестве своего предмета, и формируя все более и более конкретную систему субактивностей, как динамический орган пластически уподобляющегося форме предмета активного действия.
Таким образом, в акте натуральной рефлексии животное преодолевает сопротивление своего предмета и оставляет его в неизменном виде, и скользит по его поверхности, и не скользит но ней, то зацепляясь за нее, то отрываясь от нее вовсе, выступает одновременно и как субъект активного действия, и как субъект страдающий, как конкретное единство продуктивности и предметности.
Мера конкретности психического образа прямо, зависит от того, как глубоко проникает в предмет формирующая активность субъекта психического отношения, в какой степени данный предмет преобразован и сформирован жизненной активностью животного. Так, если речь идет об элементах среды обитания животного, то из них наиболее конкретно, богато и многоцветно должны быть представлены в психике животного те предметы, и в тех своих качествах, которые наиболее глубоко поддаются его формирующей активности. Скажем, для дятлов кора деревьев представляет собой не просто элемент пространственной организации среды обитания, как для большинства других птиц, но психически отражается, воспринимается ими как нечто, помимо внешней геометрической формы, обладающее также и внутренней структурой. Пожирание пищи - также вид формирования, притом исторически один из самих первых. Отсюда специфическая умелость и эффективность действий животных, поедающих свою обычную пищу.
Но в еще большой степени сказанное относится к конкретности взаимного психического отражения животных - хищников, и животных, являющихся предметом их охоты. Поражающая воображение охотничья хитрость одних, и порой не менее удивительная хитрость в защите - других может быть рационально объяснена только тем, что виды, связанные отношением хищник - жертва эволюционировали не просто рядом друг с другом, но в процессе эволюции формировали друг друга. Так, лиса потому «знает» и в процессе охоты часто предугадывает всевозможные «заячьи хитрости», противопоставляя им свою знаменитую лисью хитрость и сообразительность, что в процессе коэволюции она буквально породила, сформировала зайца таким, каким он является сегодня. Впрочем, верно и обратное, а именно то, что, в свою очередь, сама лиса сформирована все тем же зайцем. Заметим, однако, что при всем при том лиса, как всякий активный хищник лучше, конкретнее знает свою жертву, чем он ее.
Здесь, однако, необходимо уточнить, что специфические «знания» лисы врождены ей не в непосредственно психологическом, а, так сказать, в морфофункциональном виде[37]. Эволюция отбирает животных, чья органика максимально приспособлена к определенной предметной активности, а значит и с определенной схемой рефлексивных отношений их эффекторных и сенсомоторных субактивных элементов. Упомянутые врожденные схемы рефлексивных отношений могут быть очень жесткими, и тогда молодая особь данного вида будет способна сразу же после своего рождения включаться в развитые виды предметной деятельности, характерные для особей ее вида. Либо, как это свойственно наиболее высокоорганизованным животным, их врожденные схемы рефлексивных отношении будут достаточно широки и пластичны. В этом случае для окончательного их формирования детенышам этих видов придется пройти обособленный подготовительный период, в котором они будут заняты не грубо утилитарной, а чисто игровой жизнедеятельностью, то есть чистой натуральной рефлексией.
Впрочем, как бы ни были жестко заданы врожденные схемы активности (рефлексивных отношений) низкоорганизованных животных, это всего лишь схемы, а значит они никогда на могут быть полностью конгруэнтны с конкретной формой предмета активности, разворачивающейся здесь и сейчас. А это значит, что предметная активность всех многоклеточных животных всегда есть процесс натуральной рефлексии. Поэтому же жизнедеятельность даже самых примитивных и «прозаических» животных всегда несет в себе хотя бы небольшую искру игры - игры жизни.
И, наконец, последнее, на чем мы бы хотели остановиться в настоящей работе - это проблема спонтанности.
Переход от одноклеточной к многоклеточной форме животной жизни перестраивает активность отдельных живых клеток не только как элементов продуктивных и предметных, но также существенно меняет характер их спонтанности.
Выше мы уже отмечали, что жизнь, как островок высокоупорядоченного вещества в мире, характеризующемся постоянно растущей энтропией, не могла бы возникнуть и тем более эволюционировать без постоянного притока извне пластического материала и энергии, и что такой приток для древних пробионтов может быть обеспечен только постоянной активностью последних. Активностью, не ждущей случайного толчка, или повода извне, но спонтанно развертывающейся изнутри самого живого организма. Иными словами, что сама жизнь, не говоря уже о жизни психической, есть принципиально не реактивный (рефлекторной, или стимул-реактивный) процесс.
Пока речь у нас шла об отдельном гипотетическом пробионте, или об отдельной изолированной клетке, то за их спонтанно развертывающейся активностью мы не могли указать иного основания, кроме специфического, имманентного свойства белковых молекул или молекулярных систем. Между тем, когда мы от изолированного одноклеточного организма переходим на уровень сообществ таковых и, тем более, к многоклеточному организму, то ситуация существенно меняется.
Разумеется, и теперь организм как целое характеризует спонтанная, идущая изнутри активность. Для целого многоклеточного организма, точно так же как и для одноклеточного или даже доклеточного пробионта, внешний мир существует лишь постольку, поскольку он сформирован спонтанной активностью самого этого организма[38].
Однако теперь, на уровне органического сообщества или многоклеточного организма активность их отдельных живых элементов - отдельных особой, органов или клеток многоклеточного организма перестает быть абстрактно спонтанной, но существенно опосредуется их внешними или внутренними рефлексивными отношениями. Конкретная форма активности элементов рефлексивного целого, а также сам факт наличия или отсутствия той или иной формы активности зависит теперь всецело не от абстрактного элемента, но от этого рефлексивного целого.
Забегая несколько вперед, можно сказать, что предметная активность человечества в целом является активностью спонтанной в самом строгом смысле этого слова. За ней не существует никакой порождающей эту активность причины, никакого первотолчка. Иное дело конкретная активность любого конечного модуса органического мира, будь то отдельная социальная группа, отдельный человек, отдельная животная особь в естественной группе, отдельный мышечный орган или, даже, отдельный моторный или секреторный элемент в таком органе. Спонтанная активность такого элемента рефлексивного целого теперь снята этим целым. Напротив, возврат отдельного элемента к абстрактной, эгоцентрической спонтанности есть не что иное как болезнь целого организма.
Вот как об этом писал Гегель: «Он находится в состоянии болезни, когда одна из его систем или органов, будучи возбуждена в конфликте с неорганической потенцией, обособляется для себя и упорствует в своей обособленной деятельности против деятельности целого, текучесть которого и через все моменты проходящий процесс наталкиваются, таким образом, на препятствие»[39].
Между тем, спонтанность отдельного элемента не устраняется, а именно снимается рефлексивным целым. Иначе говоря, спонтанность целого организма или органического сообщества опять-таки не есть некая субстанциально новая спонтанность, но всегда - спонтанность ведущего в данный момент субактивного элемента. Оттормаживается и то не всецело и не навсегда лишь спонтанная активность не ведущих субактивных элементов. При этом последняя всегда сохраняется как внутренняя потенции, обнаруживающая себя в полном объеме всякий раз, когда луч рефлексивного отношения высвечивает данный субактивный элемент в качестве элемента всеобщего.
В этой же связи отметим, что и в случае многоклеточного организма, и в случае органического сообщества, состоящего из таких многоклеточных организмов, мы всегда имеем дело не с одним уровнем рефлексивных отношений, а с множеством таких иерархически соподчиненных уровней. Как мы уже говорили выше, в развитом многоклеточном организме животного низший, или висцеральный уровень рефлексивных отношений обеспечивает морфофункциональную целостность отдельных гладкомышечных органов - сердца, сосудов, желудка, кишечника, желчного и мочевого пузыря и т.п., а высший - морфофункциональную целостность скелетной поперечнополосатой мускулатуры, внешнедвигательной локомоторно-манипулятивной системы. Наоборот, в животном сообществе рефлексивные связи, обеспечивающие внешне-двигательную активность отдельных особой, представляют собой уже низший, подчиненный уровень но сравнению с рефлексивными отношениями, обеспечивающими кооперированную активность сообщества как целого.
Во всех случаях такого многоуровневого построения системы рефлексивных отношений спонтанная активность каждого нижележащего в иерархии уровня опосредована спонтанной активностью высшего уровня. Наиболее выразительно эта диалектика разных уровней рефлексивности представлена у человеческого ребенка.
§4. От висцерального субъекта к личности.
Новорожденный появляется но свет неспособным к какой бы то ни было внешнепредметной активности, а значит остаться живым он может только благодаря тому, что сразу же оказывается включенным в систему внешних рефлексивных отношении с матерью, или любым другим взрослым, выполняющим ее функции в отношении к ребенку. Очевидно, что в рефлексивной паре мать-ребенок роль ведущей субактивности, реализующей витальную предметную активность этой пары играет мать.
Какая же роль выпадает в этой диаде на долю ребенка? Рефлексивное отношение как таковое может возникать только между двумя активными элементами. В случае, если один из них предметно активен, а другой - нет, то их отношение, строго говоря, не будет отношением рефлексивным.
Кроме того, морфофункциональное единство животного организма, конкретный ансамбль его субактивностей задается его предметной активностью. Но поскольку новорожденный не обнаруживает никакой спонтанной предметной активности, постольку мы не можем говорить о нем даже как о едином морфофункциональном субъекте жизни. Эмпирически это обнаруживается во взаимном неопосредованности, незамкнутости друг на друга протекающих в его теле процессов.
Впрочем, все это нисколько не мешает матери безошибочно угадывать и ребенке живое существо и практически относиться к нему соответствующим образом, угадывая как ей кажется его органические потребности и по возможности их удовлетворяя. Очевидно, что основанием такой интуитивной уверенности является спонтанная подвижность ребенка и, в особенности, его крик и сосательные движения.
Спонтанное шевеление отдельных мышц и мышечных органов ребенка столь же очевидный эмпирический факт, как и отсутствие у ребенка в целом, спонтанной внешнепредметной активности. Экстрасоматическая подвижность ребенка представляет собой механический набор абстрактных, то есть ни в каком рефлексивном отношении друг к другу не находящихся, или находящихся в совершенно случайных отношениях шевелений (активностями их назвать нельзя в виду их непредметного характера) отдельных моторно-мышечных единиц. Каждое из них, спонтанно разворачиваясь вовне, сталкивается либо со случайным противодействием реципрокной моторно-мышечной единицы, столь же случайно обнаруживающей в данный момент спонтанное противоположно направленное движение, либо сталкивается со случайным внешним ограничением, тем самым полагая последнее в качестве своего случайного, а значит несущественного, исчезающего предмета. Поскольку человеческий ребенок не обладает врожденной генетически предзаданной схемой рефлексивных отношений, обеспечивающей синтез абстрактных активностей отдельных моторно-мышечных единиц в единый видоспецифический ансамбль субактивностей, или, что то же самое, в видоспецифическую внешнепредметную активность, постольку эти шевеления принципиально не могут сами, без организующей помощи извне перейти в разряд субактивностей на уровне самого ребенка.
Но, с другой стороны, постоянная, бьющая через край спонтанная подвижность отдельных органов ребенка, даже оставаясь абстрактной, т.е. рассыпанной на множество отдельных, практически независимых друг от друга случайных внешнепредметных действий системой, является для матери достаточным основанием для того, чтобы относиться к новорожденному ребенку как к живому, а значит нуждающемуся в ее ласке и уходе существу. Иначе говоря, абстрактная система спонтанных шевелений новорожденного обеспечивает возможность включения их в более широкое рефлексивное целое - в рефлексивную пару мать-ребенок.
Строго говоря, такое рефлексивное отношение устанавливается в этот момент не между матерью и ребенком как целостным субъектом активности, а между ней и абстрактной системой спонтанно подвижных, органов ребенка, чего мать естественно не осознает. Напротив, относясь к ребенку как к целостному субъекту, каковым он является еще только в возможности, «в себе», но отнюдь но «для себя» она тем самим вносит и бесформенный агрегат его отдельных движущихся органов некоторую, соответствующую ее культурным представлениям о «правильном» отношении и ребенку меру.
Форма рефлексивного отношения матери к ребенку всегда задана конкретной культурой. Как интерпретировать шевеления ребенка и, соответственно, какими действиями «отвечать» на эти шевеления - кормлением или заменой мокрой пеленки, ласковой речью или поглаживанием рукой по его тельцу, привязыванием к доске или свободным пеленанием, поением его водой или укачиванием, укутыванием его или «обучением плавать» в проруби - все это определяется принятыми в данный момент нормами той культуры, в которой живет и носителем которой является мать.
При этом, какие бы продиктованные культурными нормами действия ни совершала мать по отношению к ребенку, лишь те из них, которые строятся матерью так, что та или иная активность ребенка оказывается включенной в их совместно-разделенную деятельность в качестве субактивности пары мать-ребенок, лишь эти действия матери формируют целостность предметной активности ребенка. Соответственно эти дотоле абстрактные шевеления ребенка принимают на себя роль ведущих субактивностей самого ребенка, роль основания преобразующего все прочие абстрактные активности ребенка в единую систему субактивностей.
Понятно, что действия матери, подогревающей на кухне бутылочку с молоком или стирающей в ванной комнате грязные пеленки, не являются совместно-разделенной деятельностью. Однако к категории совместно-разделенных действий не будут относиться также и, скажем пеленание или купание новорожденного, при которых его спонтанная активность будет не органическим моментом этих действий, а скорее абстрактной помехой для действий матери.
Из всего огромного и в то же самое время практически лишенного содержания арсенала абстрактных шевелений органики новорожденного сразу же после рождения в совместно-разделенную с матерью деятельность, то есть в единую с ней систему рефлексивных отношений может быть встроена только сосательно-перистальтическая деятельность ребенка. Но это значит, что роль ведущей субактивности, выступающей в роли лидера и «дирижера» всех прочих абстрактных активностей ребенка на первых порах (до появления комплекса оживления) играет висцеральная система. Соответственно индивидуальная психика новорожденного в этот период может быть определена как висцеральная психика.
Разумеется, уже на этом этапе психика новорожденного будет принципиально отличной от психики той же гидры. И это различие опять-таки будет определяться не наличием у ребенка морфологических органов моторики высшего типа по сравнению со щупальцами гидры. Наличие таких морфологических органов на этом этапе остается еще не раскрытой, не реализованной потенцией, которая никак еще не может влиять на его психическое развитие. Скорее наоборот, отсутствие у ребенка какой бы то ни было цельной экстрасоматической активности - тех же щупалец, способных захватить предмет или хотя бы мало-мальски координированной поисковой активности, направленной на отыскание материнской груди, и является основанием того, что даже висцеральная психика новорожденного сразу же формируется именно по человеческому типу.
Сущность последнего заключается в том, что в отличие от любого животного индивидуальная предметная активность человека всегда, в любом возрасте, от рождении и до смерти опосредована другим человеком, адресована ему, нерасторжимо связана с ним узами внешних рефлексивных отношений, выступающих в данном случае уже в определении общественных, или социальных отношений человека к человеку, по поводу совместного, общественного материального и духовного производства их собственной жизни. При этом, от муравьев, пчел или термитов, индивидуальная активность которых также носит взаимно-опосредованный характер, человека отличает то, что он обладает уникальной в живом мире способностью снимать, или интериоризировать схемы внешних рефлексивных отношений. Так изолированная от своего коллективного тела особь муравья или пчелы обречена на гибель, ибо в такой абстракции от целого она обнаруживает свою недостаточность, частичность, неспособность к предметной активности, а значит попросту жизни. Ее морфология идеально приспособлена для реализации одной или нескольких абстрактных субактивностей роя. Но то, что является пусть и снятой, но активностью в целостной системе утрачивает такой характер в абстракции от последнего.
Человек же, даже на необитаемом острове остается звеном в том необозримом рефлексивном целом, каковым является вся человеческая культура с момента ее возникновения и до наших дней, ибо он буквально носит эту культуру в себе. Сама его живая органика - рефлексивная система, или ансамбль субактивностей отдельных моторных элементов его тела есть снятая и «перенесенная вовнутрь» схема внешних рефлексивных, заданных культурой отношений между людьми по поводу их совместно-разделенной предметной деятельности.
Первым намеком на это существенное свойство человеческой психики и является то обстоятельство, что практически единственным направленным вовне моментом целостной активности новорожденного является его крик, т.е. действие, обретающее практический смысл только и исключительно через отношение к нему другого человека. Разумеется, адресованность крика новорожденного не есть его, крика, натуральное свойство. Первый крик новорожденного есть не более чем проявление одной из многих спонтанных движений отдельных его органов. Однако, всякий раз, откликаясь на этот крик и начиная кормить ребенка, сама мать выстраивает рефлексивную связь между специфическим характером перистальтики пустого желудка своего ребенка и его криком.
При этом мать опять-таки, как правило, не осознает того, что она на самом деле делает, Ей кажется, что ее ребенок кричит в одном случае, потому что он голоден, в другом - потому что ему хочется пить, в третьем, четвертом - потому что у него мокрые пеленки или ему жарко и т.д.- Она искренне пытается угадать, что именно испытывает, ощущает ее малыш в данную минуту, чтобы удовлетворить именно это его желание.
Между тем, пока психика новорожденного еще находится на висцеральном уровне, у него не приходится предполагать каких бы то ни было мало-мальски дифференцированных как экстра-, так и интрасоматических ощущений. Первых, как у целостного субъекта, у ребенка на этом этапе нет вовсе, что же касается вторых, то и они могут быть представлены исключительно недифференцированным, «смутным» общим телесным самоощущением.
Кстати сказать, дифференцированные висцеральные ощущения вообще развиваются крайне медленно и опять-таки подобно высшим экстрапредметным ощущениям формируются не «изнутри», а «снаружи», то есть интериоризируются. Ребенок, растущий в заботливой семье и даже взрослый человек (чаще мужчина) может вообще не ощущать чувство голода как такового, с чем и приходится сталкиваться на каждом шагу, когда и дети, и взрослые заигравшись или заработавшись, «забывают о еде». Конечно, и они при этом могут испытывать чувство некоторого дискомфорта, но не голод как таковой, и поэтому естественно и не предпринимают никаких действий, направленных на его удовлетворение. Аппетит приходит к ним лишь во время еды, о которой, как правило, в нашей культуре обычно заботятся женщины.
Итак, за криком ребенка стоит не «ощущение голода», а установленное и поддерживаемое матерью рефлексивное отношение между спонтанной субактивностью пищеварительного тракта ребенка и спонтанной субактивностью его дыхательно-голосовой системы. Когда желудок ребенка наполнен, роль ведущей субактивности всецело переходит к последнему, внешняя моторика оттормаживается и ребенок успокаивается и спит. Напротив, когда желудок пуст - роль ведущей субактивности делегируется им дыхательной и голосовой мускулатуре. Соответственно, в первом случае он испытывает ощущение телесного комфорта, а в другом - дискомфорта. Со временем, однако, и эти ощущения начинают обуславливаться у ребенка не столько физической наполненностью его желудка, сколько заданным матерью и ставшим для него привычным режимом кормления.
Между тем, в период жизни ребенка от его рождения и до появления комплекса оживления, активна не только висцеральная система ребенка. Как мы уже говорили выше, в этот период абстрактно активны и органы его внешней моторики, включая моторные элементы его сенсорных систем. В короткие, но со временен все более и более удлиняющиеся по продолжительности промежутка времени, когда желудок ребенка уже наполнен, но еще не успел притормозить его внешне-двигательную активность, совершается самый загадочный и в то же время самый фундаментальный процесс - процесс становлений новорожденного отдельным человеческим индивидом.
В этот период происходит органическое дозревание и тренировка абстрактных внешнедвигательных и сенсомоторных движений ребенка. Существенным условием этого процесса является то, что он происходит в культурно-организованном предметном мире и с прямым участием других людей. Взрослые, во-первых, организуют в соответствии с нормами своей культура вешнее пространство вокруг ребенка, и, во-вторых, сами выступают в качестве центрального предмета всех его абстрактных активностей. Значение такого вещного пространства для становления индивидуальной (невисцеральной) психики ребенка в период новорожденности скорее всего ничтожно мало, а вот взрослый, буквально подставляющий себя под отдельные абстрактные активности ребенка, занимает в этом процессе центральное место.
Ухаживающий за ребенком взрослый человек, чаще всего - мать, в социально нормальных условиях не просто удовлетворяет органические нужды ребенка, но все время пытается «общаться» с ним. Между тем, подлинное общение, то есть актуальная внешняя рефлексивная связь двух индивидов возможна только тогда, когда в ее рамках (суб)активны обе стороны. Поэтому в абстрактных спонтанных шевелениях ребенка мать все время пытается уловить малейший намек на их целостность, а в этот период отдельные сенсомоторные движения уже начинают понемногу координироваться в частные рефлексивные целостности, и подставляет самое себя в фокус этих его пока еще случайных спонтанно активных действий.
Куда бы ни посмотрел, к чему бы ни прислушался и к чему бы ни потянулся ребенок его предметом чаще всего оказывается либо непосредственно сама ласково улыбающаяся и «разговаривающая» с ним мать, либо продолжающая ее руку и безусловно неотличимая ребенком от матери яркая и тоже наделенная своим «голосом» погремушка. Либо, наконец, та же «говорящая» погремушка, подвешенная матерью над его кроваткой в зоне наибольшей доступности для активности ребенка.
Иначе говоря, мать как бы собирает, фокусирует на себя все поначалу случайные и разнонаправленные движения ребенка, так, что в итоге, во-первых, между дотоле абстрактными шевелениями ребенка впервые устанавливаются рефлексивное отношение, обеспечивающее устойчивую целостность внешнепредметной активности ребенка. Во-вторых, предметом этого первого активного в собственном смысле слова действии ребенка оказывается мать, а точнее на этом этапе просто человек, человек как таковой. И, наконец, в-третьих, между взошедшим но эту новую ступень целостности ребенком и миром взрослых людей на этой основе возникает принципиально новое внешнее рефлексивное отношение.
В материнской утробе ребенка связывала с матерью пуповина. Затем, после рождения между матерью и висцеральным ребенком установилось слабое рефлексивное отношение, внутри которого ребенок еще не обособлен как отдельный человеческий индивид, но выступает скорее как абстрактный желудок. И лишь после того, как на исходе второго месяца жизни спонтанные шевеления отдельных органов ребенка превращаются в целостную, направленную на другого человека активность, причем такую специфическую активность, в которой пока еще не различены предметное и рефлексивное отношения, в которой другой человек выступает и как всеобщий предмет, своего рода предмет-предметов, в котором на данном этапе для ребенка воплощено все богатство предметного мира, и в то же время как сторона рефлексивного отношения в их общем предметном отношений к миру, а значит как субъект отношения в высшей степени неутилитарного, как субъект чистого межчеловеческого общения.
Возникновения такого целостного, направленного на другого человека, а через него и на весь предметный мир потока рефлексивной активности, все более и более мощной струей бьющего из ребенка, есть также не реактивный, а всецело спонтанный процесс. Его невозможно ни понять, ни представить как реакцию на то или иное воздействие «внешней среды». Напротив, именно этой спонтанно пробуждающейся в нем человеческой активностью, направленной на другого человека, на человека вообще и создающей между ребенком и другим человеком мощнейшее рефлексивное поле, превращающее любую внешнюю вещь, попавшую в сферу действия этого поля, в его, ребенка, предмет, ребенок, а позднее уже взрослый человек преобразует и творит человеческий предметный мир.
Однако, специфически человеческая активность, будучи активностью спонтанной, не может ни возникнуть, ни сохраниться вне системы рефлексивных отношений, связывающих одного человека с другим. Вне такой связи, объединяющей индивидов в совместном производстве их жизни, активность абстрактного человека сначала до неузнаваемости искажается, а затем и вовсе затухает. У младенцев подобная ситуация известна как синдром госпитализма. У народов, живущих родоплеменным строем, ту же природу имеет равнозначное смерти наказание посредством изгнания провинившегося из рода, так называемый остракизм. Разрыв или нарушение межчеловеческих рефлексивных связей, обусловленный смертью близких, войной или заключением в тюрьму, да и множеством других причин - всех не перечтешь - является подлинной причиной многих нравственных, психических и соматических страданий, приводящих зачастую и к смерти человека.
И, наконец, у индивида на нисходящей кривой человеческого развития в соответствии с законом Рибо последней перед смертью распадается и угасает именно эта рефлексивная активность, связывающая умирающего человека с миром людей. Уже после того, как, казалось бы, давно и окончательно угасло сознание умирающего, он еще продолжает отвечать пожатием руки на вложенную в его ладонь человеческую руку. Когда оборвется и эта последняя ниточка, связывающая его с другими людьми - человек умер, хотя какое-то недолгое время его тело еще будет по инерции существовать на абстрактно висцеральном уровне организации.
Заключение
Общий анализ материалов исследования позволяет сделать ряд выводов:
1. Идея рефлексивности отношения субъекта к миру определяет исходный принцип построения теоретической модели развивающейся психической реальности в культурно-деятельностной психологии.
2. Обращение Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева и Э.В.Ильенкова к теоретическому наследию Б.Спинозы служит свидетельством единого подхода перечисленных авторов к решению фундаментальных проблем теоретической психологии.
3. Понятие мыслящего тела (Б.Спиноза – Э.В.Ильенков) содержит в себе прообраз идеи рефлексивности (рефлексивной активности) в современной психологии.
4. Методологическое значение идеи рефлексивности может быть актуализировано лишь в ходе категориального осмысления содержания ключевых проблем, на решение которых направлен данный подход: проблемы генетического критерия психики, уровней филогенетической организации психического, интериоризации, соотношения аффекта и интеллекта.
5. Спинозовская трактовка мышления как атрибута Субстанции (Природы) предполагает выработку содержательного теоретического понимания жизни, определяющего возможности раскрытия своеобразия ее психической формы.
6. Теоретическое понимание жизни как особой активности, определяемой единством спонтанности, продуктивности и предметности, наиболее адекватно специфике предмета психологии. При этом жизнь организма, для которого его предметная активность является его снятым отношением к самому себе, а его отношение к самому себе - его снятой предметной активностью, выступает как собственно психическая форма жизни.
7. Наличие рефлексивного отношения внутри живой системы может быть рассмотрено как филогенетический критерий психики.
Разумеется, данные выводы далеко не исчерпывают обсуждаемый в нашем исследовании круг проблем. Их перечисление лишь подчеркивает принципиальную незавершенность теоретического исследования, если оно не разомкнуто даже не столько в психологическую, сколько в широкую социальную практику и не отражено, не рефлектировано от нее в себя, в теоретический, категориальный анализ. Впрочем, эта задача уже выходит за рамки данной работы, а по существу и за границы возможности одного автора.
Библиография
1. Авдеева Н.Н. Развитие образа самого себя у младенца: Автореф. дис. канд. психол. наук. – М., 1982. – 22 с.
2. Албанезе Дж., Суздалев И.Н.. Динамика биомолекул: новый метод исследования. - В международном ежегоднике "Будущее науки", п. 18. М., 1985
3. Анохин П.К. Избранные труды. – М.: Наука, 1978. – 400 с.
4. Бахтин М.М. К философии поступка. // Философия и социология науки и техники. Ежегодник. 1984 – 1985. – М., 1986. – С. 80-160.
5. Бернар К. Жизненные явления общие животным и растениям. С-Пб., 1878.
6. Бернштейн Н.А. О построении движений. – М., 1947. – 255 с.
7. Бернштейн Н.А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности. – М.: Медицина, 1966. – 349 с.
8. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М.: Педагогика, 1968. – 464 с.
9. Божович Л.И., Конникова Т.Е. О нравственном развитии и воспитании детей. // Вопросы психологии, 1975. – № 1. – С. 80-89.
10. Божович Л.И., Морозова Н.Г., Славина Л.С. Развитие мотивов учения у советских школьников. // Известия АПН РСФСР. – М., 1951. – Вып. 36.
11. Братусь Б.С. Аномалии личности. – М.: Мысль, 1988. – 301 с.
12. Брунер Дж. Онтогенез речевых актов. // Психолингвистика. / Под ред. А.М. Шахнаровича. – М.: Прогресс, 1984. – 368 с.
13. Брунер Дж. Психология познания (за пределами непосредственной информации). – М.: Прогресс, 1977. – 414 с.
14. Бюлер Ш., Тюдор-Гарт Б., Гетцер Г. Социально-психологическое изучение ребенка первого года жизни. / Под ред. Л.С. Выготского. – М. – Л.: Госмедиздат, 1931. – 234 с.
15. Вагнер В.А. Возникновение и развитие психических способностей. Л., 1924-25
16. Валлон А. От действия к мысли. Пер. с франц. – М.: Изд-во иностранной литературы, 1956. – 238 с.
17. Валлон А. Психическое развитие ребенка. – М.: Просвещение, 1967. – 196 с.
18. Венгер А.Л. О значении изменения позиции ребенка для формирования у него новых типов организации действий. // Новые исследования в психологии, 1979. – № 1. – С. 65-69.
19. Вилли К., Детье В. Биология. // Мир. М., 1974, с. 31.- 820 с.
20. Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6-ти т. Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. – 361 с.
21. Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6-ти т. Т. 3. – М.: Педагогика, 1983. – 328 с.
22. Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6-ти т. Т. 4. Детская психология. / Под ред. Д.Б.Эльконина. – М.: Педагогика, 1984. – 432 с.
23. Выготский Л.С. Проблемы дефектологии. – М.: Просвещение, 1995. – 527 с.
24. Выготский Л.С. Развитие высших психических функций. Из неопубликованных трудов. – М., 1960. – 363 с.
25. Гальперин П.Я. Введение в психологию. – М., 1976. – 150 с.
26. Гальперин П.Я. К исследованию интеллектуального развития ребенка. // Вопросы психологии, 1969. – № 1. – С. 15-25.
27. Гальперин П.Я. Психологическое различие орудий человека и вспомогательных средств у животных и его значение: Канд. дис. – Харьков, 1936.
28. Гальперин П.Я. Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных действий. // Исследования мышления в советской психологии. – М., 1966. – С. 236-277.
29. Гальперин П.Я. Развитие исследований по формированию умственных действий. // Психологическая наука в СССР. – Т. 1. – М., 1959 (б). – С. 441-469.
30. Гальперин П.Я. Типы ориентировки и типы формирования действий и понятий. // Доклады АПН РСФСР, 1959 (а). – № 2.
31. Гегель. Энциклопедия философских наук. М., 1975, т. 2, с. 558.
32. Гегель. Энциклопедия философских наук. М., 1975, т. 2, с. 558.
33. Гельвеций К.А. О человеке, его умственных способностях и его воспитании. // Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. / Под ред. А.И. Пискунова. – М.: Просвещение, 1971. – С. 255-265.
34. Гольданский В. Возникновение жизни с точки зрения физики. "Коммунист", № I, 1986.
35. Гордеева П.Д., Зинченко Б.П. Функциональная структура действия, М., 1982
36. Гордеева П.Д., Зинченко Б.П. Функциональная структура действия, М., 1982.
37. Гробстайн К. Стратегия жизни. М., 1968, с. 89.
38. Гросберг А.Ю.,Хохлов А.Р. Полимеры и биополимеры: взгляд физиков-теоретиков. - В международном ежегоднике "Будущее науки", №. 18. М., 1985.
39. Давыдов В. В., Маркова А.К. Концепция учебной деятельности школьников. // Вопросы психологии, 1981, № 6.
40. Давыдов В. В., Маркова А.К., Эльконин Д.Б. Основные вопросы современной психологии детей младшего школьного возраста. // Проблемы общей, возрастной и педагогической психологии. – М., 1978.
41. Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении. – М.: Педагогика, 1972. – 424 с.
42. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М.: ИНТОР, 1996. – 544 с.
43. Декарт Р. Избранные произведения.// Мысль. М., 2004 – 655 с.
44. Дидро Д. Систематическое опровержение книги Гельвеция «Человек». // Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. / Под ред. А.И. Пискунова. – М.: Просвещение, 1971. – С. 266-271.
45. Запорожец А.В. Некоторые психологические вопросы развития музыкального слуха у детей дошкольного возраста // Избранные психологические труды: В 2-х т. Т. I. Психическое развитие ребенка. – М.: Педагогика, 1986а. –С. 78-84.
46. Запорожец А.В. Основные проблемы онтогенеза психики // Избранные психологические труды: В 2-х т. Т. I. Психическое развитие ребенка. – М.: Педагогика, 1986б. – С. 223-257.
47. Запорожец А.В. Избранные психологические труды. М.,1986
48. Зинченко В.П. Культурно-историческая психология и психологическая теория деятельности: живые противоречия и точки роста. // Вестник МГУ. Сер. 14. Психология, 1993. – № 2. – С. 41-51.
49. Ильенков Э.В. Диалектическая логика. //Политиздат.М. 1974. – 268.
50. Исследование развития познавательной деятельности. / Под ред. Дж. Брунера, Р. Олвера, П. Гринфилда. – М.: Педагогика, 1971. – 392 с.
51. Коул М., Скрибнер С. Культура и мышление. Психологический очерк. – М.: Прогресс, 1977. – 264 с.
52. Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. – М.: Атеист, 1930. – 340 с.
53. Левин К. Динамическая психология: Избранные труды. – М.: Смысл, 2001. – 572 с.
54. Леви-Строс К. Структурная антропология. – М.: Наука, 1983. – 536с.
55. Леонтьев А.Н., Избранные психологические труды. М., 1983. – 356 с.
56. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. // Смысл. М. 1981. – 346 с.
57. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: В 2-х т. Т. I. – М.: Педагогика, 1983(а). – 392 с.
58. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: В 2-х т. Т. II. – М.: Педагогика, 1983(б). – 320 с.
59. Леонтьев А.Н. О формировании способностей // Вопросы психологии, 1960. – № 1. – С. 7-17.
60. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики..// Издательство московского униваерситета. М. 1981 – 583.с.
61. Лисина М.И. Генезис форм общения у детей // Принцип развития в психологии. – М.: Наука, 1978. – С. 268-294.
62. Лисина М.И. Общение детей со взрослыми и сверстниками: общее и различное. // Исследования по проблемам возрастной и педагогической психологии. – М.: НИИ ОП АПН СССР, 1980. – С.3-32.
63. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения. – М.: Педагогика, 1986. – 144 с.
64. Локк Д. Опыт о человеческом разуме, пер. с англ. – М.: Тип. И.Н. Кушнарева, 1898.
65. Лурия А.Р. Об историческом развитии познавательных процессов. Экспериментально-психологическое исследование. – М.: Наука, 1974. – 172 с.
66. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. – М., 1973.
67. Обухова Л.Ф. Концепция Жана Пиаже: за и против. – М.: Изд-во МГУ, 1981.
68. Обухова Л.Ф. Этапы развития детского мышления (формирование элементов логического мышления у ребенка). – М., 1972. – 152 с.
69. Павлов И.П. Поли. собр. соч., - М.:Л., 1951, т.III, кн.2,с.324
70. Перре-Клермон А.Н. Роль социальных взаимодействий в развитии интеллекта детей. – М.: Педагогика, 1991. – 248 с.
71. Петровский А.В. Развитие личности и проблема ведущей деятельности. // Вопросы психологии, 1987. – № 1. – С. 15-26.
72. Петровский В.А. Личность в психологии: парадигма субъектности. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – 512 с.
73. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. – М.: Просвещение, 1969. – 659 с.
74. Пиаже Ж. Теория Пиаже. // История зарубежной психологии (30 – 60-е гг. XX в.). Тексты. / Под ред. П.Я. Гальперина, А.Н. Ждан. – М.: Изд-во МГУ, 1986. – С. 232-292.
75. Поддьяков Н.Н. Мышление дошкольника. – М.: Педагогика, 1977.
76. Поливанова К.Н. Психологическое содержание подросткового возраста // Вопросы психологии. – 1996. – № 1. – С. 20-33.
77. Полуянов Ю.А. Диагностика общего и художественного развития детей по их рисункам. Пособие для школьных психологов. – М. – Рига: ПЦ «Эксперимент», 2000. – 160 с.
78. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии, изд. 2.. – М.: Учпедгиз, 1946. – 704 с.
79. Рубинштейн С.Л. Проблема деятельности и сознания в системе советской психологии // Ученые записки Московского университета, 1945, вып. 90.
80. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. – М., 1976. – 416 с.
81. Рубинштейн С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии. – М.: Медицина, 1970. – 215 с.
82. Слободчиков В.И. Психологические проблемы становления внутреннего мира человека. // Вопросы психологии, 1986. –№ 6. – С. 14-22.
83. Слободчиков В.И. Становление рефлексивного сознания в раннем онтогенезе. // Проблемы рефлексии. – Новосибирск: Наука, 1987. – С. 60-68.
84. Социально-исторический подход в психологии обучения. / Под ред. М. Коула. – М.: Педагогика, 1989.
85. Спиноза Б. Избранные произведения // Политиздат. М., 1957. т.1 625.
86. Торндайк Э.Л. Принципы обучения, основанные на психологии. – М., 1930.
87. Фельдштейн Д.И. Психология взросления: структурно-содержательные характеристики процесса развития личности. – М.: Флинта, 1999.
88. Фигурин Н.Л., Денисова М.П. Этапы развития поведения детей в возрасте от рождения до одного года. / Под ред. Н.М. Щелованова, Н.М. Аксариной. – М.: Медгиз, 1949. – 103 с.
89. Фрейд А. Норма и патология детского развития: Пер. с нем. – М., 1990.
90. Фрейд А. Психология Я и защитные механизмы: Пер. с англ. – М.: Педагогика, 1993. – 144 с.
91. Фрейд З. «Я» и «Оно». Труды разных лет: Пер. с нем. Кн. 2. – Тбилиси: «Мерани», 1991. – 428 с.
92. Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции: Пер с нем. – М.: Наука, 1989. – 455 с.
93. Хомский Н. Язык и мышление. – М.: Изд-во МГУ, 1972(б). – 122 с.
94. Шредингер Э. Что такое жизнь с точки зрения физики? М., 1947
95. Эйген М., Винклер Г. Игра жизни. М., 1979
96. Эльконин Б.Д. Введение в психологию развития (в традиции культурно-исторической теории Л.С. Выготского). – М.: Тривола, 1994. – 168 с.
97. Эльконин Д.Б. Детская психология. – М., 1960. – 328 с.
98. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М.: Педагогика, 1989. – 560 с.
99. Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте // Вопросы психологии. 1971. – № 4 – С. 5-20.
100. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М.: Педагогика, 1978. – 304 с.
101. Bowlby J. Maternal care and mental health. – Geneva, 1951. – 166 p.
102. Cole M. Society, mind and development. // The Child and Other Cultural Inventions. / Ed. by Cessel F.S., Siegel A.W. – New York etc.: Praeger, 1983. – P. 89-114.
103. Cole M., Bruner J.S. Preliminaries to a theory of cultural differences. // Seventy-First Yearbook of the National Society for the Study of Education. – Chicago, 1972. – Pp. 161-179.
104. Cole M., Sharp D.W., Lave C. The cognitive consequences of education: some empirical evidence and theoretical misgivings. // Urban Review, 1976. – Vol. 9. – P. 218-233.
105. Duffy E. Activation and Behavior. – New York, 1962.
106. Durkheim E., Mauss M. Primitive Classification. – Chicago: University of Chicago Press, 1963. – 96 p.
[1] Вслед за Ю.Энгештрёмом, мы говорим о единомкультурно-деятельностном подходе, сложившимся в российской психологии, хотя необходимо отдавать отчет в его внутренней неоднородности. Последнее нередко становится основанием не только для различения, но даже противопоставления культурно-исторической теории Л.С.Выготского и теории деятельности А.Н.Леонтьева (а также С.Л.Рубинштейна) (см. работы М.Г.Ярошевского, В.П.Зинченко, А.В.Брушлинского и др.). В своем исследовании мы делаем попытку воссоздать систему идей, которые как раз и определяют упомянутое единство.
[2]. В отличие от схоластически-аристотелевской точки зрения, Декарт понимает душу, не как причину жизни органических тел. Жизнь последних с его точки зрения объясняется чисто механическими причинами.
[3] Заметим, что именно такое представление о материи характерно для естественнонаучного мышления Нового времени и свою родословную оно ведет именно от Декарта.
[4] Разумеется, формой не только абстрактно-геометрической.
[5] У Л.С .Выготского, надо сказать, крайне мало готовых ответов. «Психика, сознание, бессознательное», как и все прочие его тексты, это не профессорски-назидательное изложение окончательных истин, но живой процесс мышления, процесс поиска ответов на проклятые теоретические вопросы. Процесс настолько живой, что он прослеживается в самом тексте обсуждаемой статьи. В этом смысле все его литературное творчество можно объединить под одной шапкой-названием: «Мыслящая речь».
[6] http://www.quantumconsciousness.org/presentations/whatisconsciousness.html
[7] Критикуемый Л.С.Выготским Мортон Принц (Prince) с помощью категории эмердженции пытается совершить salto mortale над картезианской пропастью, отделяющей протяженное машинообразное тело от бестелесной души.
[8] Хотя бы самую минимальную степень одушевленности Спиноза приписывает всем вещам, но это вовсе не означает, что автор «Этики» исповедует панпсихизм. Спинозовское «мышление» - совсем не психика, хотя в контексте обсуждаемого нами вопроса мы употребляем их как синонимы. Степень и границы правомерности такого словоупотребления будут ясны из дальнейшего изложения.
[9] Тут Лев Семенович сам ненароком продемонстрировал нам образец «изгнания дьявола именем Вельзевула».
[10] Cм. например: Т.М.Марютина, О.Ю.Ермолаев «Введение в психофизиологию. Обосновывая свою позицию, авторы пишут: «…психофизиология это физиология целостных формы психической деятельности, возникшая для объяснения психических явлений с помощью физиологических процессов (курсив мой – А.С.), и поэтому в ней сопоставляются сложные формы поведенческих характеристик человека с физиологическими процессами разной степени сложности.
Истоки этих представлений можно найти в трудах Л.С.Выготского, который первым сформулировал необходимость исследовать проблему соотношения психических и физиологических систем, предвосхитив, таким образом, основную перспективу развития психофизиологии (Выготский, 1982)»
[11] Классический образец критики узкого эмпиризма см. в работе, Э.В.Ильенкова «Диалектика абстрактного и конкретного в Капитале К. Маркса. М.,1960
[12] Надо отметить, что позаимствованный у Г.Гегеля термин «среда-стихия», мы употребляем в несколько ином смысле, чем это делает А.Н.Леонтьев. У Гегеля «среда-стихия» есть по существу понятие, соответствующее физическому представлению о фазовом состоянии вещества. Иначе говоря, речь может идти о твердой, жидкой и газообразной среде-стихие. Естественно, что в природе было бы бесполезно искать чистые, то есть равные себе и гомогенные среды-стихии, как в ней не встретить идеальный газ или абсолютно черное тело. Эволюционирующая жизнь находит себя не в лабораторной среде-стихие, не в абстрактной жидкости, но в реальной, гетерогенной среде. Причем, даже если на секунду допустить исходную гомогенность жизненного пространства, то оно обязательно будет нарушено, должно быть нарушено спонтанной активностью народившегося организма. Поэтому, сохраняя термины, введенные А.Н.Леонтьевым, мы предлагаем различать среду-стихию и вещно организованное предметное пространство, как пространство с континуально и дискретно организованным полем предметности.
[13] Воистину, заслуживают уважения те колоссальные (при их полной тщетности) словесные усилия советских теоретиков, пытавшихся противопоставить «правильную» теорию И.П.Павлова «неправильному» бихевиористскому подходу.
[14]
[15] В задачу настоящей работы не входит сколько-нибудь исчерпывающий анализ современных биологический теорий, поэтому иллюстрировать названное обстоятельство мы будем преимущественно на материале психологов, в трудах которых был намечен выход за узкие рамки критикуемого нами подхода.
[16] Вагнер В.А. Возникновение и развитие психических способностей. Л., 1924-25, вып. 8, с. 3.
[17] Если, разумеется, активность не понимать формально-энергетически.
[18] То, что этот тип подвижности присущ исключительно животным, мы покажем ниже.
[19] Мы не считаем необходимым обсуждать внеземное происхождении жизни. Допущение того, что жизнь была привнесена на Землю из космоса не снимает проблему естественного ее возникновения где-нибудь во Вселенной.
[20] Отметим, что зарождавшаяся на Земле жизнь, будучи существенно целостным, глобальным или биосферным процессом, в то же время, с самого начала должна была быть разбита на мириады отдельных "жизней", воплощенных в телах отдельных элементарных пробионтов, хотя последние, в отличие от их более развитых потомков, и не располагали еще таким органом своей "отдельности", как замыкающая отдельную клетку плазматическая мембрана. Скорость тепловой (радиационной, химической) деструкции белковых образований задает интенсивность метаболических процессов, опосредующих са-мовоспроизводство живого вещества, а значит и минимально необходимый приток метаболитов на единицу живого вещества. Единство биохимических процессов в недифференцированной живой системе обусловливало ее пространственную компактность, т.е. форму более или менее близкую к шаровой. Поскольку с увеличением радиуса плотного в себе шаровидного тела его масса растет пропорционально кубу, а поверхность - только квадрату радиуса, при достижении определенного предела поверхность такого растущего пробионта должна оказаться недостаточной для обеспечения минимально необходимого притока метаболитов к его живому веществу, а значит этот организм должен был либо погибнуть, либо разделиться на два пространственно обособленных дочерних организма.
[21] Гольданский В. Возникновение жизни с точки зрения физики. "Коммунист", № I, 1986, с. 88-89.
[22] Дж. Албанезе, И.Н. Суздалев. Динамика биомолекул: новый метод исследования. - В международном ежегоднике "Будущее науки", вып. 18. М., 1985, с. 113.
[23] А.Ю. Гросберг, А.Р. Хохлов. Полимеры и биополимеры: взгляд физиков-теоретиков. - В международном ежегоднике "Будущее науки", вып. 18. М., 1985, с. 131.
[24] Гробстайн К. Стратегия жизни. М., 1968, с. 89.
[25] Спиноза Б. Избранные произведения, т. I,. М., 1957, с.414-415.
[26] Спиноза Б. Избранные произведения, т. I,. М., 1957, с.456.
[27] Гордеева П.Д., Зинченко Б.П. Функциональная структура действия, М., 1982, с. 33.
[28] Запорожец. А.В. Избранные психологические труды, т. 2, с. 28.
[29] Запорожец А.В, Избранные психологические труды, т.2, с. 29.
[30]Запорожец А.В, Избранные психологические труды, т.2, с. 29.
[31] Напомним, что под пищевым материалом мы всякий раз подразумеваем помимо органической нищи также и кислород, и воду, и углекислоту, и растворы минеральных солей, и солнечный свет - словом все то, в чем нуждается любой мыслимый живой организм для поддержания и умножении своей жизни.
[32] Вилли К., Детье В. Биология. М., 1974, с. 325.
[33] Цит. по К. Бернар. Жизненные явления общие животным и растениям. С.-Пб., 1878, с. 205.
[34] Леонтьев А.Н. , Избранные психологические труды, т.2, с. .261.
[35] Говоря о спонтанности скелетной поперечнополосатой мускулатуры, мы, разумеется, понимаем ее отнюдь не в неврологическом смысле. Мы вообще не касаемся в настоящей работе абстрактно нервных процессов, ибо полагаем, что их анализ мало что может дать для понимания природы психических процессов, возникающих и разворачивающихся не во взаимодействии нейронов, а в рефлексивном отношении предметных субактивностей, реализуемых мышцами, жгутиками и т.п. Нервные процессы составляют всего лишь физиологический субстрат некоторых из этих рефлексивных процессов и как таковые сами должны быть поняты из формы последних.
[36]В качестве этого ограничения животное встречается со внешнюю специфичной для его вида вещью, человек – ближайшим образом с волей другого человека, а в конечном итоге с бесконечной материальной Природой.
[37] Можно сказать, что лиса в значительной степени есть идеальный заяц, равно как и наоборот – заяц есть идеальная лиса. Здесь, между прочим, с предельной наглядностью становится очевидным принцип целостности природы.
[38] Последнее, конечно, не упраздняет того факта, что для живого организма в абстракции от его жизни, т.е. для организма как всего лишь физического тела внешний мир существует и помимо его жизненной активности. Однако нас в данном случае интересует не абстрактно механические или химические взаимодействия организма с миром, а те и только те взаимодействия, система которых сообщает специфически организованному белковому телу форму жизни
[39] Гегель. Энциклопедия философских наук. М., 1975, т. 2, с. 558.
Похожие работы
... проблеме. 2. Анкетирование (см. прил. 1). 3. Контент-анализ. Метод контент-анализа использовался для изучения степени сформированности рефлексии как профессионально значимого личностного качества учителей-логопедов. Метод контент-анализа служит для выявления и оценки специфических характеристик текстов путём регистрации определённых единиц содержания, а также систематического ...
... как философ прагматистского направления, социолог и социальный психолог. Это обстоятельство обусловило важную специфическую особенность интеракционизма: в отличие от других теоретических подходов в социальной психологии, в основе которых лежат традиционные психологические школы и направления, интеракцио-нистская ориентация пришла в социальную психологию из социологии. Понятийный аппарат и ...
... учреждения. 9. Сформулируйте особенности организации и проведения психокоррекции в условиях дошкольного учреждения. 10. Выделите направления психопрофилактической деятельности детского практического психолога. 11. Сформулируйте особенности организации и проведения психопрофилактики в условиях дошкольного учреждения. 12. Определите содержание и направление психологического просвещения в ...
... деятельности. Семья, где ведущим типом взаимоотношений является сотрудничество, обретает особое качество, становится группой высокого уровня развития – коллективом. РАЗДЕЛ теоретическая ПСИХОЛОГИЯ: 1. Методы психологического исследования, их взаимодополняющий характер. 2. Общая характеристика ощущений как психологического процесса. 3. Основные психологические направления (школы ...
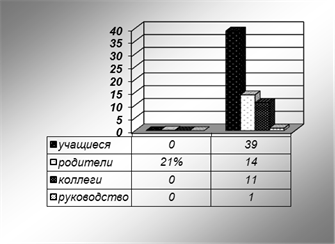
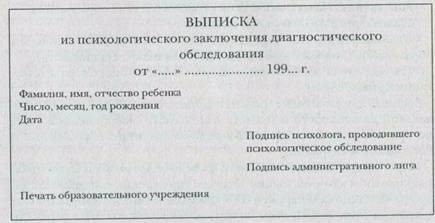

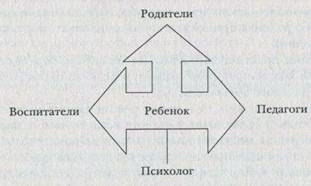
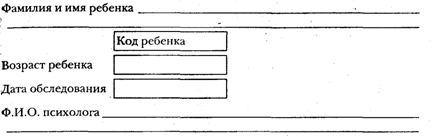
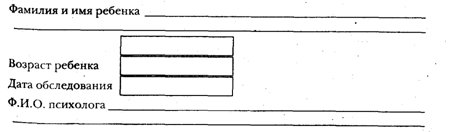
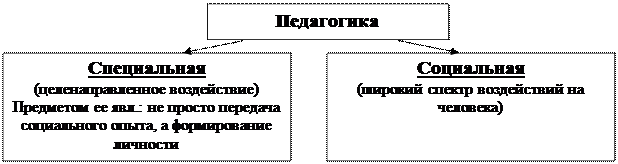
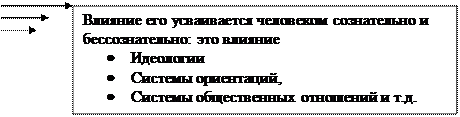
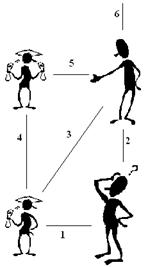
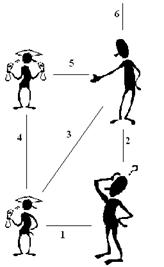
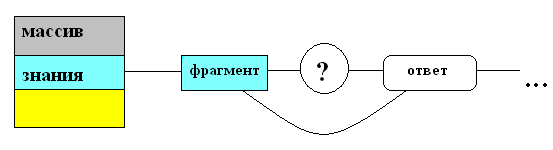
0 комментариев