Олеся Николаева
Можно сказать, что семьдесят лет большевизма хотя и не одолели Церковь Христову, но уничтожили в России православную культуру. Только сейчас она едва-едва начинает возрождаться. Вновь возрождаются монастыри, поднимаются из руин храмы, открываются православные учебные заведения, издательства, газеты, журналы. 80–90-е годы отмечены приходом к Церкви интеллигенции, в том числе интеллигенции творческой.
Почти два тысячелетия христиане ждут Второго Пришествия, предварять которое должно смутное антихристово время. Христиане всегда помнили предостережение Спасителя: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас... Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных (Мф. 24, 4, 24). Христиане приглядывались к знамениям времени и сличали их с приметами антихристова царства и приближающегося конца мира, которые были указаны Самим Господом. Христианство и немыслимо без этой эсхатологической ноты: Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как всё сие будет... О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один... Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет (Мф. 24, 34, 36, 42).
Вовсе не удивительно, что мы и сейчас приглядываемся к новой эпохе с тяжелым недоверчивым чувством. Ибо, когда будут говорить: «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба... и не избегнут (1 Фес. 5, 3).
Также услышите о войнах и о военных слухах. …ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам; всё же это — начало болезней. …и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое; и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга; и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих; и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь... Итак, когда увидите мерзость запустения... стоящую на святом месте... (Мф. 24, 6–12, 15).
Кажется, что именно сейчас, как никогда ранее в истории, человек, сформированный духом времени и сам этот дух формирующий, не только беззащитен перед лжехристами, но и сам по своей свободной воле выражает полную готовность предаться в их руки и поклониться антихристу.
Не только общество формируется таким образом, чтобы принять этого таинственного Годо, не только политика подготавливает все для его беспрепятственного восшествия, но и культура, совершая свою победоносную контртеологическую революцию, довершающую то, что не удалось революции большевистской, вылепливает сознание, в котором уже запечатлен его лукавый и безблагодатный образ.
Однако, памятуя евангельские обетования о катастрофическом конце истории, христиане хранят в сердце слова Христа: Итак, бодрствуйте (Мф. 24, 42; Мф. 25, 13). Бодрствовать для христианина — это и значит творить волю Божию. Это и значит собирать со Христом, ибо кто не собирает со Мною, тот расточает,— собирать во Христе самого себя, собирать ближних, собирать мир. Это и значит — творить. Своеволие же, по словам протоиерея Георгия Флоровского, есть начало расточающее.
Можно сказать, что семьдесят лет большевизма хотя и не одолели Церковь Христову, но уничтожили в России православную культуру. Только сейчас она едва-едва начинает возрождаться. Вновь возрождаются монастыри, поднимаются из руин храмы, открываются православные учебные заведения, издательства, газеты, журналы. 80–90-е годы отмечены приходом к Церкви интеллигенции, в том числе интеллигенции творческой. В связи с этим вопрос об отношениях Православия и творчества, Церкви и культуры становится особенно актуальным.
Вопрос этот порой затуманивается двумя противоречивыми тенденциями. Первая состоит в непреодоленном интеллигентском сознании культа творчества, оформленном, в частности, мыслителями и поэтами Серебряного века. Это то наследие, о котором мы говорим в главе «Церковь и Интеллигенция».
Вторую тенденцию можно было бы назвать «околоцерковным народничеством»: это вера в то, что в Церковь можно прийти только через отказ от культуры и творчества, через опрощение. Как точно подметил протоиерей Георгий Флоровский, «до сих пор слишком многим некое народничество представляется необходимым стилем истового православия. “Вера угольщика”, или старой нянюшки, или неграмотной богомолки принимается и выдается за самый надежный образец или мерило. <…> Ради благочестия принято даже теперь говорить о вере каким-то поддельным, мнимо народным, неестественным, жалостным языком. Это самый опасный вид обскурантизма, в него часто впадают кающиеся интеллигенты. Православие в таком истолковании часто обращается почти что в назидательный фольклор... И не возвращение к народу, в первобытную цельность и простоту, скорее строгий аскетический искус есть единственный путь подлинного воцерковления. <…> И не возвращение к родному примитиву, скорее выход в историю, присвоение вселенских и кафолических преданий...».(1)
Действительно, мы сталкиваемся и поныне с этими двумя мифами: один уверяет нас в том, что творчество спасительно само по себе, другой — обнаруживает в творчестве только искушение, нечистоту, грех, избежать которых можно, лишь отказавшись от всякого творчества. Стойкие приверженцы обскурантистского взгляда невольно впадают в манихейство. Не то что бы творчество было вовсе свободно от греха, но оно не свободно именно в той мере, в какой не свободно от него любое человеческое бытие, любое человеческое проявление, будь то любовь, молитва и даже самопожертвование — плевелы, засеянные лукавым, возросли повсюду (см.: Мф. 13, 25), а безгрешен лишь один Господь.
Очевидно и то, что страх перед культурой и творчеством имеет свои основания: «творческие» люди обнаруживают себя как горделивые, страстные и приверженные грехам. Но, во-первых, вовсе не факт, что именно творчество делает их таковыми. Во-вторых, творческая энергия иссякает именно в грешном человеке, и мы нередко оказываемся свидетелями утраты человеком своего таланта. В-третьих, большой вопрос: не являются ли сами обскуранты, отказавшиеся и от культуры, и от личного подвига творчества, не менее горделивыми, страстными и приверженными грехам? Известно, что предмет гордости вовсе не обуславливается своей ценностью: гордиться можно и своим невежеством, и своей глупостью, и даже своим грехом.
Дар творчества дан нам изначально, приумножение его вписано в сам замысел Божий о человеке, но дело самого человека, каким образом этим даром распоряжаться. Притча о зарытом таланте не позволяет от него отказаться даже из самых благих побуждений: «от греха подальше» (см.: Мф. 25, 14–30).
Дар творчества есть именно дар — то, что не добыто, не оплачено и не нажито человеком. Полнота этого осознания явлена в совершенном смирении человека — в святости. Путь принятия и приумножения дара лежит через Церковь. Пределы этого дара безграничны: ибо не мерою дает Бог Духа (Ин. 3, 34). Благословение Иисуса Христа, отверзающего уста гугнивому, раскрывающего очи слепорожденному, поднимающего с постели расслабленного, воскрешающего мертвого и приумножающего хлеба так, что ели, насытились, и еще осталось, дает не мерою, но столько, сколько сам человек может принять и вместить.
Единственное, что необходимо человеку, принявшему дар, для его приумножения,— это смирение. Смирение — это и есть человеческое позволение Господу (Логосу, Слову) войти и вечерять с ним (ср.: Откр. 3, 20). Послушание — это и есть согласие человека на то, чтобы приготовить место Господу. Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову (Мф. 8, 20), потому что в мире почти нет смиренных и послушных друзей Его. В своем высшем проявлении творчество и есть пребывание со Христом: преображение и обожение человека.
Так что греховно не само по себе творчество, но грешен сам человек, который грешит, узурпирует Божий дар и закрывает перед его Подателем дверь.
Тот же, кто чает Его и, наконец, чувствует Его присутствие у себя, уже не думает о том, греховно ли омыть Ему ноги и отереть их волосами своими (см.: Лк. 7, 44–46), греховно ли подать Ему пить или есть,— ликуя, он моет, и вытирает, и подает... И знает, что сам он — человек грешный. Так же ликует и тот, кто творит во имя творения, во имя Творца.
И лишь потом мы возьмем и оценим плоды этих трудов. Мы увидим, быть может, их несовершенство: здесь — ослабло вдохновение, и художник попытался подменить его рациональным умыслом, а здесь — поддался непреображенной страсти, тут — слукавил, там — ему изменил вкус... Но Господь даже ангелам Своим запретил выдергивать плевелы до Судного Дня (см.: Мф. 13, 29–30)…
Культура свидетельствует о духовном состоянии человеческого сознания и породившего ее общества. Анализируя основные тенденции новой культуры, сознательно или неосознанно предавшей себя в распоряжение духам века сего, православное сознание принимает ее именно как свидетельство трагического разрыва современного человека с Творцом и Спасителем мира. Трезвое понимание эпохи, в которую мы живем, может предостеречь от некоторых тонких и завуалированных соблазнов, которыми переполнена современная жизнь, и хотя бы отчасти отразить ее агрессивные посягательства на душу каждого человека. В этой ситуации становится особенно актуальным православное культурное делание, возрождающее православную культуру, цель которой — преображение человеческой души и мира.
Ей, гряди, Господи Иисусе! (Откр. 22, 20).
Культура есть самосознание человечества в его истории, и отвергающие культуру отвергают и историю, в которой совершилось Боговоплощение. Отвержение истории всегда чревато сектантством и ересью. Поэтому культуру нельзя отвергать — в ней надо жить и преображать ее изнутри. Постмодернизм как общекультурное течение получил такое распространение еще и потому, что православная культура пока слишком слаба. Ее нельзя пересадить из прошлого, ее можно возделывать лишь в настоящем. К ней нельзя прикасаться брезгливыми обскурантскими руками — она требует любви к творчеству, подвига жизни, мысли и чувства.
И православному человеку нечего бояться творчества: если оно еще возможно в мире, то именно в православной душе. Мы видим, как иссякает талант в современной богоборческой культуре, как старательно и тщетно его пытаются имитировать, какими жалкими выглядят эти потуги, затеи, «придумки».
В православной культуре есть все. В ней есть даже свои «перформансы» и «инсталляции», до которых никогда не додуматься нынешним постмодернистам: как уже было сказано, лукавый не может ничего творить, он может лишь компилировать, копировать, пародировать то, что было создано Творцом или с Его помощью.
Сами того не ведая, постмодернисты стали эпигонами православных Христа ради юродивых, которые сделались безумны Христа ради (1 Кор. 4, 10), ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом (1 Кор. 3, 19). Ради Христа они ломали фарисейские и законнические стереотипы, чтобы на их обломках засияла неотмирная правда Божия. Они нарушали автоматизм будничной жизни, чтобы в мире явился свет Преображения. Они вторгались в представления об обыденности церковной жизни, напоминая о том, что Церковь есть Невеста Христова. Они не разрушали реальность, но являли в ней свидетельства Царства не от мира сего (Ин. 18, 36).
Оптинский старец Нектарий порой встречал посетителей, играя тряпичными куколками. Преосвященный Феофан Калужский был настолько искушен поведением старца, что посчитал его ненормальным: когда он пришел к отцу Нектарию, тот не обращал на него внимания и занимался своими куколками: одну совал в тюрьму, другую бил, третью наказывал. Лишь потом, при большевиках, когда владыка попал в тюрьму, где его истязали мучители, он понял пророчество отца Нектария.
Рассказывают про него, что он насобирал разного хлама — камешков, стеклышек, глины — и все это показывал приходящим к нему со словами: «Это — мой музей». Был у этого старца и электрический фонарик, завернутый в красную бумагу. Он прятал его под рясу, ходил по комнате и время от времени сверкал им: «Это я кусочек молнии с неба схватил и под рясу спрятал».— «Да это же не молния, это просто фонарь!» — восклицали паломники, удивленные его экстравагантным поведением. «А, догадались!» — радовался он.(2) Много было у него чудачеств, как сказали бы постмодернисты, «перформансов», которые потом оказывались символическими пророчествами, притчами.
Юродивый преподобный Симеон (память 21 июля ст. ст.) за несколько дней до великого землетрясения в Антиохии бегал по городу и ударял плетеным ремнем по каменным столбам, приговаривая: «Господь повелел тебе стоять крепко». Именно эти столбы и уцелели во время землетрясения. Как только люди начинали почитать его за святого, он тотчас совершал нечто такое, что должно было служить доказательством его безумия. Иногда он ходил хромая, иногда — подскакивая, иногда ползал по земле, колотя ногами. А то вдруг сплетал венок из маслины и трав и, возложив на голову, ходил по городу, помахивая ветвью. То его можно было видеть сидящим на плечах блудницы, причем вторая блудница била его при этом ремнем, то — таскающим за собой по городу привязанного за ногу дохлого пса. То — вбежав на амвон, он швырял в женщин орехи, то, сняв с себя одежду и намотав ее себе на голову, вбегал в женскую баню. Известен случай, когда юродивый исцелил человека с бельмом на глазу, помазав его горчицей и приказав умыться уксусом с чесноком. Исцеление он сопроводил словами: «Не воруй же коз у соседа».
Блаженный Николай Саллос Псковский (память 28 февраля ст. ст.) появился перед Иваном Грозным, прыгая на «оседланной» палочке и приговаривая: «Иванушка, Иванушка, покушай хлеба-соли, а не человечьей крови». А потом предложил ему кусок кровавого мяса. «Я — христианин и в пост мяса не ем»,— возмутился царь. «А кровь христианскую пьешь?» — спросил юродивый.
Один из монастырских иноков сказал в шутку блаженному Исаакию Печерскому (память 14 февраля ст. ст.): «Исаакий! Вот сидит ворон, иди и поймай его». Поклонившись до земли, Исаакий подошел, взял ворона и принес его в поварню к инокам.
Преподобный Иоанн Колов (память 9 ноября ст. ст.) получил от преподобного Пимена Великого послушание ежедневно поливать совершенно сухое дерево. Через три года оно покрылось зеленью и расцвело.
Преподобный Виссарион, Египетский чудотворец (память 6 июня ст. ст.), когда его неминуемо должна была застигнуть темнота на пути к старцу, останавливал солнце словами: «Молю Тебя, Господи, да стоит солнце, пока я приду к рабу Твоему».
Юродивые блаженные Николай Кочанов (память 27 июля ст. ст.) и Феодор (19 января ст. ст.) Новгородские постоянно устраивали между собой драки: один подстерегал другого на Волховском мосту, и когда кому-нибудь из них приходилось переходить через мост, то другой не допускал его на свою сторону и гнал. Раз блаженный Николай, увидев блаженного Феодора «на своей территории», погнался за ним. Блаженный Феодор пробежал несколько улиц, пересек огороды и оказался возле самого Волхова, по которому и кинулся «яко по суху». Блаженный Николай бросился тем же манером за ним, прихватив при этом с огорода кочан капусты. Так он и гнал по водам блаженного Феодора до середины реки и в конце концов запустил кочаном в своего противника.
Василий Блаженный (память 2 августа ст. ст.) был приглашен Иваном Грозным в день его тезоименитства. Подняв кубок с питьем, он трижды выплеснул его содержимое за окно, чем вызвал ужасный гнев царя. Видя это, блаженный сказал: «Царь, не гневайся, ибо излиянием этого питья я погасил огонь, которым в этот час был объят весь Новгород, и потушил пожар». Грозный узнал, что действительно именно в этот час пожар был потушен. Не раз жители Москвы видели, что Василий, проходя по улицам, то целовал углы одних домов, то в углы других бросал камни. Когда же спрашивали его, зачем он это делает, отвечал, что целует углы тех домов, в которых плачут ангелы от творящихся там беззаконий, и бросает камни в углы тех домов, откуда праведной жизнью горожан изгонялись бесы и повисали на углах, где блаженный и добивал их камнями.
Блаженный Прокопий, Вятский чудотворец (память 21 декабря ст. ст.), когда духовник попросил его помолиться о своей жене, страждущей «зубной болезнью», вырвал свой собственный зуб и, протянув духовнику, сказал: «Возьми». Зубы у жены священника тут же перестали болеть.
Юродивые всегда были великими постниками (даже если ели на глазах у всех в Великий пост мясо), молитвенниками (даже если бесчинно вели себя в церкви), прозорливцами и чудотворцами (даже если казались вовсе безумными). Их поведение — не от мира сего — смещало привычную реальность и преображало ее: пожары утихали, ураганы проходили мимо, укрощались штормы, солнце останавливалось в небесах, слетались ласточки (как к Андрею юродивому), воскресали мертвые, исцелялись больные, разбойники и блудницы становились праведниками и исповедниками Христа.
Их, выражаясь языком постмодернизма, «перформированная» (преображенная) реальность оказывалась Богопричастной: в ней совершалось чудо. В ней в конце концов оживала и становилась действенной и «вера угольщика», и «старой нянюшки», и «неграмотной богомолки», и лукавого книжника, и ученого фарисея: всех достигал этот свет преображения — то единственное «измененное освещение», при котором лишь и возможны и жизнь, и любовь, и творчество.
А главное — юродивые принимали на себя подвиг быть безумными в мире сем по великому смирению, не только для того, чтобы скрыть свою святость, чтобы избежать человеческих похвал и человеческого поклонения, но и для того, чтобы сделаться гонимыми, презренными и отверженными, — такими, каким был в глазах мира Христос во время Своей земной жизни. То ничтожество, в которое они облекаются Христа ради, призвано упразднить в них всякую самость, дабы явилась через него слава Божия.
Устроители же постмодернистских перформансов, напротив, стремятся к тому, чтобы быть замеченными и отмеченными. Движущей силой здесь становится самовластный горделивый умысел переиначить спонтанный ход мира, изменить искусственным образом органическую ткань жизни, исковеркать мир Божий. В отличие от юродивого ничтожества, пытающегося убедить окружающих в своей духовной нищете, постмодернистский умысел претендует на обладание неким самостоятельным содержанием, которым можно жить. Однако разворачивающий прихотливую упаковку перформанса рискует не найти в ней ничего, кроме ее самой. В конечном счете, перформанс оказывается лишь средством самоутверждения его устроителей.
Итак, некоторые зрелищные, игровые и поведенческие компоненты юродства отдаленно напоминают постмодернистские шоу. Однако «лицедейство» юродивых имеет целью славу Божию, в то время как постмодернистские манипуляции лежат исключительно в сфере интересов человеческого «я», разорвавшего свои связи с Творцом и Спасителем мира. Царство не от мира сего (Ин. 18, 36), которое проповедают юродивые, и мир постмодернистских симулякров вряд ли могут соприкоснуться.
Мир симулякров и есть, по сути, геенна огненная (Мф. 18, 9) — место, где нет Бога, где реальность и смысл, явление и сущность, означающее и означаемое разошлись навеки. Там плач и скрежет зубов (Мф. 8, 12).
Православная культура, от которой мы были оторваны семидесятилетним вавилонским пленом, жива и как никогда актуальна. Православные самосознание и творчество, породившие ее, до сих пор не выпускают нас из своего поля. Во всяком случае, мы до сих пор узнаем в «новых людях» все тех же старых знакомых.
Постмодернисты с их симулякрами — ба, да это ж любезный Чичиков при всех его мертвых душах «на вывод», со всей их «виртуальностью»! Гениальный Гоголь прозрел «бойкую необгонимую тройку», везущую этого родителя виртуальной реальности — да так, что шарахаются народы: «не молния ли это, сброшенная с неба?» и «что значит это наводящее ужас движение?»...
Да тут, впрочем, все: Хлестаков, Ноздрев с перформансами, капитан Лебядкин с виршами, Смердяковы, Плюшкины, Собакевичи, Верховенские, господа Голядкины... Все эти двойники, перевертыши, големы... Нос майора Ковалева — «перемещенный предмет» par excellеnce!
Русская классика, выношенная в лоне Православия, еще раз — образно — свидетельствует, что разрыв человека с Первоисточником его бытия ведет к вырождению и смерти. Тревожное ощущение (и самоощущение) постмодернизма, что культура исчерпала себя и дальнейшее творение ее невозможно, есть следствие духовного оскудения человека, уповающего на свою самодостаточность. Разрыв культуры с Церковью оборачивается ущербностью, упадком и, в конечном счете,— смертью культуры.
В свете христианской эсхатологии нет места для исторического оптимизма: нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда... небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. (2 Пет. 3, 7, 10). Вопрос о культуре упирается в конечные судьбы мира и требует своего разрешения перед лицом огня. Это не значит, однако, что все сгорит, но что все будет подвергнуто огненному испытанию: Строит ли кто на этом основании (Иисусе Христе.— О. Н.) из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы,— каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но т`ак, как бы из огня (1 Кор. 3, 12–15).
Строительство это и надо понимать как раскрытие всех творческих способностей человека, «приумножение талантов», которые будут взысканы с человека. Те дела, которые в огне устоят, ожидает преображение, ибо мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда (2 Пет. 3, 13). Конечно, это не значит, что в будущем веке сохранятся все человеческие шедевры и вообще то, что мы в мире сем называем культурой, но в каждом творчестве есть нечто, содержащее в себе семя вечности, «логос», роднящий его с Логосом. И эти энергии Духа, коснувшиеся когда-либо души человеческой, не могут исчезнуть бесследно. Вдохновение же, выражаясь языком святителя Григория Паламы, и есть одна из энергий Духа.
И здесь снимаются противоречия Церкви и культуры, Православия и творчества. Культура — не абсолютная ценность, и все же она есть свидетельство человечества об идеальной реальности. Идолопоклонство в отношении ее столь же утопично, сколь и ее полнейшее отвержение. Творчество есть призвание и послушание человека, осуществляемое на путях исполнения воли Божией. Воля Божия состоит в том, чтобы взыскать и спасти погибшее (Мф. 18, 11), преобразить и обожить его. Творческая идея не может осуществляться автономно от идеи спасения, так же как спасение невозможно при зарытых талантах. Путь же спасения лежит через Христову Церковь.
Православная культура есть пока лишь замысел, идеал. Как таковой он, возможно, неосуществим. Но в стремлении к нему собирается творческая энергия, формируется личность, испытуются любовь и вера. Ибо даже неосуществимость этого идеала рождает дивные вещи, бесценный жемчуг:
По небу полуночи ангел летел
И тихую песню он пел.
И месяц, и звезды, и тучи толпой
Внимали той песне святой.
Он пел о блаженстве безгрешных духов
Под кущами райских садов,
О Боге великом он пел, и хвала
Его непритворна была.
Он душу младую в объятиях нес
Для мира печали и слез,
И звук его песни в душе молодой
Остался — без слов, но живой.
И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна,
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.(3)
Список литературы
1. Протоиерей Георгий Флоровский. Пути русского богословия. С. 504.
2. См.: Концевич И. Оптина Пустынь и ее время. Jordanville, 1970. С. 481–482, 493.
3. Лермонтов М. Стихотворение «Ангел».
Похожие работы
... ? Их отличает какой-то специфический почерк рационализма, опознаваемого в подобного рода религиозных текстах как налет протестантизма. И действительно: протестантское словесное религиозное творчество (прежде всего — гимны, псальмы) стилистически ничем не отличается от «любительского» православного: та же намеренная добропорядочность «нейтральной», а по сути нивелированной, лексики, чередующейся, ...
... 80-х годов, и сумел противостоять пессимистическим внушениям западного и российского декаданса. В поисках духовной гармонии Произведения заветной для Александра Ивановича Куприна темы - это произведения на тему любви. В творчестве писателя она нашла воплощение во множестве человеческих судеб и переживаний. Между тем далеко не одним интересом к психологическим процессам рождён этот богатый ...
... Бесхитростна, как ты, душа поэта, Она в обыкновенный вешний день Все ароматней университета! ( Образ сирени очень часто встречается в творчестве Игоря Северянина, он писал: Нарвите мне смеющийся букет В нем будет то чего в сирене нет Или: Плывут струи сирени Ах томный бред сирени ...
... и вопросы его» ^ Эти строки похожи на пророчество задним числом, кажется, что такие заключения мог сделать только человек, хорошо изучивший все последующее творчество Тургенева. В «Литературных и житейских воспоминаниях» Тургенев признался, что когда он прочитал эту статью, то от горячих похвал критика «почувствовал больше смущения, чем радости» '. Это признание нуждается в поправке на время: ...

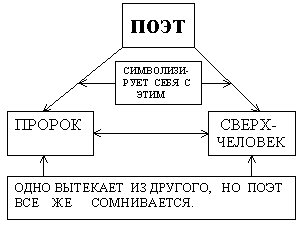
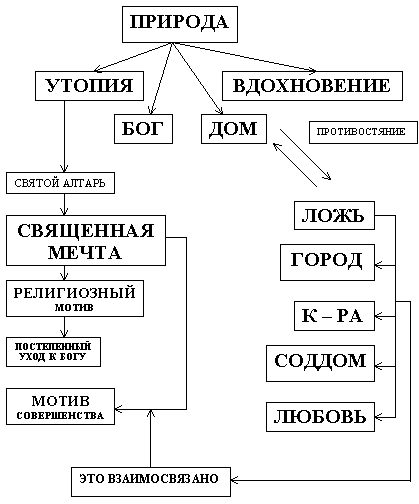
0 комментариев