Навигация
Закон смены тонов: притягивающий, группирующий вокруг себя возлележащие ступени лада тон сам становится втянутым в новую группу
1. Закон смены тонов: притягивающий, группирующий вокруг себя возлележащие ступени лада тон сам становится втянутым в новую группу.
2. Закон строгой экономии и отбора внутриладовых тонов: если взять скачок, он заполняется недостающими голосами. Отсюда и интонационная симметрия. Отсюда и осмысливание повторов того или другого тона.
Но оба эти закона действуют в условиях интонируемой – развернутой в движении, действии и самодавлеющей мелодики. И генерал0бас уже почти «нейтрализовал» действие этих законов в мелодическом развитии, а в наше время движение абстрактно-акустическому принципу окончательно убивает мелодическое чувство, уничтожая или обезличивая основные законы отбора тонов и смены их в мелодическом становлении лада. И притом: это обедняет и гармонию!.. Что же удивляться жалобам на отсутствие «мелодии», на господство штамповых песен?!
Каждый композитор в упорной работе над своим внутренним слухом должен тщательно развивать в себе ощущение «весомости» интервалов, своего рода музыкального осязания данного звукорасстояния, его напряженности и трудности или легкости его достижения.
Самое трудное, но и самое высшее, чего надо достичь – научится слышать музыку в одновременном охватывании всех ее «компонентов», раскрывающихся слуху; но так, чтобы каждый миг звукодвижения осознавать в его связи с предыдущим и последующим и тут же моментально определять, логична или алогична эта связь – определять непосредственным чутьем, не прибегая к техническому анализу. Такого рода постижение музыкального смысла знаменует высший этап в развитии внутреннего слуха и с формальным анализом не имеет ничего общего. Хорошее упражнение на путях к этому – играть для себя пьесы несколько непривычных форм, требуя от слуха ежемоментного осознания «логики развертывания звучащего потока», вернее, интонационного – смыслового – раскрытия музыки, как живой речи.
Логическое развертывание музыки влечет слух, и при этом каждая неожиданность, торможение или просто техническая неловкость воспринимается как нарушение смысла. Но если эта неожиданность закономерна, осознанна композитором и и является лишь неожиданностью в сопоследовании и в дальнейшем движении оправдывается тем или иным свойственным музыке логическим ходом, - настороженный слух чутко реагирует на подобный «скачок мысли». Образуется своего рода «арочная система» из звукокомплексов, когда отклик на ююбой из них может возникнуть на расстоянии, а не непосредственно. И средневековая западно-европейская полифония, и русское крестьянское попевочно - подголосочное хоровое многоголосие, и многообразная интеллектуально-утонченная музыка современного города, с ее экспрессивной динамикой и выразительным языком тембров, содержали в себе систему «звуко - арочного» композиционного развития: интонация интонации соотвечает не рядом, а на расстоянии, чем достигается и эмоциональная напряженность и смысловая обостренность.
Далее композиторская мысль постепенно нащупывает возможности чисто музыкального становления, как нового метода осознания и постижения действительности. Через сложные этапы творческих исканий композиторы приходят к своеобразно музыкальной способности выражения чувств и идей – к становлению музыки, как развития. Как технический термин, развитие раскрывается через перечисление приемов, применением которых оно достигается, но как явление смысла, как носитель мыслящего творческого сознания и как одно из средств познания музыкальное развитие пока приходится принимать, как одно из несомненных для композиторов и чутких музыкантов качеств европейской музыки на высших стадиях ее эволюции. А для слушателей? В их непосредственном восприятии, вне анализа данного качества, музыка, как развитие, живет убедительной своей эмоциональной образностью, живой интонационной речью, насыщенной то ораторским пафосом, то интимным лиризмом, то драматической страстностью, то вдумчивым созерцанием. Сочувствие слушателей монументальным формам музыки доказывает «доступность» свойств музыкального развития каждому слушателю, для которого музыка не забава, не прихоть воображения и не «щекотка» чувствительности.
История развития, как сущности европейского симфонизма, очень сложна и продолжительна, ибо путь исканий и опытов был извилист и зигзагообразен. Трудность этих исканий вызвана множеством причин: человеческий слух, как следствие сложного общественного процесса уступал зрению; и законы «зримости», обеспечившие, ренессансовой живописи перспективу, определили «звукопространственную» перспективу музыки. Еще большим тормозов было то, что слух профессиональный слишком опережает слух воспринимающей массы. Отсюда неизбежность формального «изощренчества» и «одиночество» новаторов, если они выбирают путь субъективных исканий. Эти одинокие опыты иногда так и поглощаются забвением, и никто к ним не возвращается, а иногда подхватываются и делаются «слышимыми», потому что процесс слухового восприятия – с других позиций – привел к тем же находкам уже более подготовленный историко-культурным развитием слушателя. Последующие поколения либо обогащают «услышанное» и закрепленное сознанием общества, либо стремятся это наследие по-своему преодолеть: и опять субъективисты пытаются вырваться «на свободу» и создать свой язык, но услышит их избранный круг таких же мечтателей. На путях борьбы за развитие музыканты не раз заходили в идейные тупики, в преувеличение и «расцвету» технических ресурсов, впоследствии оказавшихся непригодными. Только с открытием «сонатности» музыка получила конкретный стимул, устойчивый, могучий рычаг для интенсивного врастания развития во все области музыкального творчества; и только тогда начался «век симфонизма».
На заре музыкального ренессанса первой ласточкой музыкальной сонатности было завоевание принципа развития посредством имитации. От первых опытов включения интонации в интонацию до сложных видов канона и монументального искусства фуги музыка пережили несколько периодов кризисов и подъемов; но кривая борьбы за развитие шла даже в условиях подчинения композиторской мысли потребностям культа. Церковь была мощной организацией и дисциплинировала всякое художественное ремесло. Музыке культ до поры до времени давал широкий простор.
В борьбе музыки за самостоятельные средства выражения и независимость форм значительный период времени уходит на выработку ритмических закономерностей и соответственных им метрических норм и схем, независимых от словесной и поэтической метрики. Эта борьба была тесно связана с проблемами записи музыки и эволюцией нотописания. На выработку строгого ритмо - устава было потрачено много усилий. Ведь тут музыкальный ритм сталкивался со взаимодействующими ритмами поэзии и танца. Кроме того, окостенение, в связи с развитием новых европейских языков, средневековой латыни, ускоряло самостоятельное ритмическое становление музыки.
Интонация так тесно спаяна с ритмом, как дисциплинирующим выявление музыки фактором, что вне закономерностей ритмического становления нет и музыкального развития. Больше того: если сюита, как первая крупная музыкально-техническая форма, из цепи танцев обратилась в художественное целое, в надстройку над бытовыми музыкальными формами, то этим своим «надбытовым» значением она обязана работе ряда поколений музыкантов-ремесленников инструменталистов над ритмическим развитием танцевально - бытового материала. Значит, они не только выполняли «требы» горожан, но и музицировали, как художники, как артисты, выходя за пределы прикладного применения своего уменья.
Чем дальше в Ренессанс, тем сильнее развитие индивидуального виртуозного мастерства импровизации, вместе с эволюцией и «домашнего» музицирования; тут опять ощущается сложное и упорное прорастание и закрепление «на слух» ритмо норм и ритмо форм. Эта работа поколений привела европейскую музыку к такой свободе «ритмо - интонационной речи», что мы теперь, сочиняя музыку, уже не думаем о ритме как дисциплине музыкального развития, а только отмечаем довольно грубо и обобщенно «верстовые стольбы музыкального движения», то есть тактовый метр.
Процесс закрепления в сознании европейского человека интервалов, как интонационно ощутимых и мыслимых звукосоотношений, ускользает от исследователей. Этот процесс не мог не быть длительным. Можно с достоверностью предполагать, что каждый из интервалов закреплялся в музыке – в результате преодоления бытовой практики, - как носитель некоего эмоционально-смыслового тонуса, как оформившаяся, закрепившаяся интонация, как вокальная или инструментальная экспрессия, как запечатленный в данном постоянном звукоотношении резонанс ощущений. Нельзя ограничивать область интонации интонациями вопроса, ответа, удивления, отрицания, сомнения и т. п. Ибо область интонаций, как смыслового звукоявления, безгранична. Но отбор их на каждой социальной стажи, затем эпохой, затем – в искусстве – стилистикой ограничен.
Возможно, например, что интонация, как явление осмысления тембра, имела наибольшее влияние на образование и закрепление в сознании неких «констант» - постоянных звукосвязей, которые рождали мелос – осмысленно-напевную речь; и уж из нее «дистиллировались» прочные звукосвязи, то есть интервалы. В этом своем качестве интонация действует и за речью и за музыкой, предшествуя им. Здесь Асафьев высказывает свою гипотезу о том, что ни поэзия, ни музыка не достигли бы таких высот в культурной истории человечества, если бы в первобытном человечестве, наряду с разработанной «осязательной» речью руки, не существовала чуткая и тонкая «интонационная речь», вернее язык интонаций.
Важной в образовании европейской ладовой системы являлась борьба за внедрение в нее «тритона», как равноправного звукосочетания. Тритон, как никакой из традиционно бытовавших в раннем средневековье интервалов разрушал сложившиеся, особенно в культе, интонационные навыки. Это естественно. Но, разрушая, он является прогрессивным для европейского слуха явлением. Этот «весомый» по своему напряжению интервал организовывал лад, синтезируя составляющие его элементы и в то же время обостряя их взаимосопряжения и составляя из ступеней лада не примыкающие друг к другу отдельные звуки, а цепко связанные звенья, обусловливающие при своей ограниченной самостоятельности безграничное разнообразие интонационных высказываний.
Обостряя ощущение вводнотонности, выравнивая интонацию звукоряда, «тритон» вносил и в мелодику повышенную эмоциональную настроенность и многообразные возможности мелодического движения и притяжения. Конечно, позднее, с «уравнением» по образцовому мажорному звукоряду остальных тональностей, «тритонности» стали одним из интенсивнейших факторов развития. Стало возможным взаимодействие «тритонов» различных тональностей. Обострение вертикалей, то есть гармонических комплексов, было также обусловлено «тритонностью». Далее, ближе к нашей эпохе, слух европейцев стал все свободнее и свободнее «принимать» тритоны, как «самоуправляющиеся» элементы лада, как еще более напряженную сферу доминантности; и тогда стало возможным тритоновое сопряжение тональностей и новое обобщение лада, новый синтез, через включение в лад, вместо одного, несколько звеньев «тритонов» и «вводных тонов», и сугубое обострение лада полутонностью. В этом становлении громадно значение русской музыки; и Глинки и, особенно, Бородина, одного из великих реформаторов интонации. Из теоретиков глубокий анализ «тритонности» и раскрытие значения этой интонационной сферы в современной музыке дал русский музыкант-мыслитель Б. Л. Яворский.
Наоборот, рабски починившая себе умы многих теоретиков римановская система «функциональной гармонии» закрепощает слух и сознание композиторов своей консервативной механической «предустановленностью». Эта система является печальным наследием так называемого «генерал-баса», цифрованного баса, то есть учения о гармонии, рождавшегося из практики органного и клавирного сопровождения, своего рода аккомпаниаторства. Но и эта практика была в свое время во многом явлением прогрессивным, пока она не стала упорно тормозить рост интонационно-мелодической гармонии и интонационно-тембровой комплексной гармонии. В противовес гармонии, вытекавшей из механизировавшегося continuo, генерал-баса, и обусловившей худшие виды гомофонии, интонационно-мелодическая гармония закономерно рождалась из застывшей лавы готической полифонии и образовала богатейшую полифонно-гармоническую «практику», в которой привольно себя чувствовала и пышно процветала вся романтико-симфоническая культура 19 в. И Глинка является в этой сфере одним из выдающихся мастеров, и Шопен, и Вагнер, и Чайковский – столь разные по творческой направленности люди! В сущности, от закономерных норм этой полифонно-гармонической культуры не освободилась еще и современность – настолько богаты ее интонационные ресурсы, благодаря тому, что эта культура питается мелодической природой музыки, а не механизированным движениям по ступеням басового голоса. Римановская «предустановленная» гармония, наоборот, устанавливает «вертикаль», как основу музыкальной ткани, и механизирует ее развитие!
Но критика «функционализма», как сковывающего сознание композиторов метода, ни в какой мере не снимает исторического значения практики гармонии генерал-баса и трансформаций этой практики в музыке 19 в., особенно у романтиков. Важно только помнить, что создавание европейской гармонии – сложное, из целого ряда смыслово - стилевых тенденций, теорий и «практик», слагаемое, отнюдь не объединяемое рационалистическим функционализмом. В нашей же стране коренные основы русской народной интонации, с ее системой централизации на устой – на тонику, с ее крепко дисциплинированной устной полифонией, - метод, который есть интонационный, а не абстрактно-рассудочный процесс голосоведения; метод, в котором полифония, гармония, мелос, ритм составляют единство. Функционализм в наших условиях является тормозом развития, принципом, дифференцирующим элементы музыкальной ткани в пользу гипертрофии механизированной гармонии. Впрочем, и передовые жизненные направления западноевропейской музыки точно так же борются и с акцентирующим такты метрическим «танцовальным» басом, и с «предустановленным» движением басового голоса, как базовой гармонии, и с гипертрофией доминантности.
ЭВОЛЮЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ГАРМОНИИ ОТ 17 к 19 В
Какие же интонационные процессы происходили во время напряженной эволюции европейской гармонии от 17 к 19 в., к «золотому веку» классико-романтической гармонии? Увы, они с трудом поддаются обобщенному изложению, ибо и наблюдение за ними и анализ их очень затруднительны: наше современное мышление не так «остро» слышит все процессы интонирования в недрах полифонической речи старых мастеров. Мы слышим полифонию прошлого в значительной мере сквозь теоретические системы.
В полифонической практике и творчестве Ренессанса и далее эпохи рационалистического мышления европейская полифония достигла колоссальных интеллектуальных побед. Она занимала первенствующее положение не только в культе, но и во всех видах общественного и домашнего музицирования: на базе полифонической практики городских музыкантов-ремесленников, из преодоления бытовой танцевальной музыки, возникает инструментальная сюита – первая монументальная форма светского музицирования, первинка европейского симфонизма. Сюита явилась одной из стадий инструментального ансамблевого концертирования; отсюда – путь к реформам ансамблевого концерта, с группой солирующих голосов, и далее к начаткам симфонии, по мере нащупывания формы сонатного аллегро, где принцип последования или прилепления звена к звену уступал место развитию через контрастность и систему звукоарочных перекличек.
Трудность исследования заключается в наблюдении за проростанием инструментальной полифонии и жизнью ее в эпоху, когда победила гармония, в эпоху полифонно-гармонического оркестра. Уже явление Регера показывало что дело не в возрождении органной полифонии и не в стилизации «контрапунктического стиля». Регер свободно ощущал полифонию как живую интонацию. Ближе к нам творчество Хиндемита, с его стилистикой, безусловно современной и в то же время ощущаемой, как почти коренное, давнее. Кроме того Регер не вполне свободно чувствовал себя в «оркестровом обиходе», тогда как Хиндемит создал свой оркестровый стиль и свой ансамбль. Причем его камерный ансамбль переходит за грани камерности в обычном понимании и, не теряя внутренней сосредоточенности, высказывается словно оркестр. Оркестр Хиндемита в свою очередь, насыщен динамикой и сосредоточенной жизнью камерного ансамбля не будучи, однако, ограниченным в своих возможностях. Хиндемит не спрашивает себя, что это: гармония или полифония? Это всегда интонация – высказывание мысли в голосоведении, управляемом ритмом не формально, а так, что ритм помогает осознать ход – развитие идей. С музыкой Хиндемита вновь вошла в жизнь та давняя, одухотворенная энтузиазмом музицирования, инструментальная культура полифонии, которая зародилась среди кипучей молодости европейских бюргерских городов.
Вагнер, по - видимому, понимал, в чем загадка образования инструментальной полифонии нового качества. Если бы он не понимал, то в своих «Мейстерзингерах», добродушно иронизируя над вокализирующими мастерами, он не создал бы такой инструментальной атмосферы вокруг них. Он же создал ее с нежным поэтическим любованием и проникновением в душу инструментализма эпохи, не стилизуя, а высказываясь языком, интонациями полифонии, а не категориями контрапункта.
В этом обращении к творчеству Регера, Хиндемита и Вагнера Асафьев излагает свою гипотезу о первых этапах развития европейской инструментальной полифонии из практики музицирования ремесленников музыки – музыки, как одной из отраслей трудовой культурной жизнедеятельности европейского города Ренессанса и так называемой эпохи просвещения. Эта практика выработала полифонический язык и технику в живом общении, почти с граничащем с подобного рода совместным пением крестьянских хоров, и с навыками и нормами «музыки устной традиции», в непосредственном обмене опытом и в соревновании мастерством.
Несмотря на могучий рост культовой и придворной вокальной полифонии, инструментальный «полифонизм» должен был создать свои принципы оформления, свои конструктивные нормы и основы голосоведения. В эстетике инструментального полифонизма можно говорить о стремлении к выразительному «представительству» в противоположность пластичной поступи и церемониальной «репрезентативности» культовой музыки. Точно так же типична здесь не пышность орнаментики, а ее подчеркнутая задорность, «излом», словно инструменты готовы вступить в спор друг с другом или подражать выкрикам глазеюшей, празднично шумной толпы горожан. Вообще экспрессия этой полифонии очень близка к знаменитому описанию городского гуляния в «Фаусте» Гете. Так же Асафьев обращает внимание на реалистически-экспрессивную трактовку инструментов, как носителей живой интонации, а не как «воспроизводителей» какой-либо строчки партитуры. Оттого даже в наивно гармонической структуре многих симфоний слышится инструментальная полифония – так характерологично голосоведение. Это идет от сложившейся, но полузабытой практики инструментальной полифонии, которая родилась в среде самостоятельного и самобытного ремесленно-профессионального музицирования: тогда инструмент был словно голос его «хозяина», его «второе я», и игра на нем становилась живой речью.
Почему эта практика не стала сложившимся стилем и не завоевала вершин, а только напитала собой быстро развившийся новый полифонно-гармонический инструментальный строй симфоний и почти на протяжении всего 19 в. таилась как бы под почвой, будучи, однако, живым родником? Понятно, что культовая вокальная полифония идейно себя изжила и что органная полифония после Баха омертвела, механизировалась. Кроме того, эпоха великих рационалистических размышлений уступила место конкретному революционному строительству, а психика «соскучилась» пусть по наивным, но зато жизненным «теплым интонациям. Но почему же нарождавшийся среди омертвевшей культовой культуры канона и фуги, светский стиль интонационно-реалистической инструментальной полифонии уступал первенство гомофонии и полифонической гармонии?
Игра (чисто ренессансовская юная манера высказывания), как инструментально-полифоническое искусство, ориентировалась не на психологию личности, а на человека в его общественном проявлении и поведении. Не случайно в этот период господство интонаций и ритмов «танцевальности». Не случайна характерная динамика мотивов и поступи музыки у Д. Скарлатти. Каждое чувство живет не как внутреннее переживание, а как извне наблюдаемое проявление.
Но в то же время на вершинах искусства музыка все сильнее входила в круг идей современности, и развитие ее шло к овладению формой симфонии-сонаты, диалектикой сонатности, потому что только через эволюцию этой формы можно было выразить бурный драматизм эпохи, поднять музыку на еще более высокий уровень идейности, дать более глубокий анализ человеческого сердца. Ни рационализм фуги, ни ораторский пафос культовой полифонии, ни виртуозный блеск концертирующего стиля не могли выразить желанного. Еще менее могла соперничать с этими стилями и формами музыки и музицирования светская инструментальная ансамблевая полифония. Этот полифонизм не созрел до вершен искусства, и уступка назревшей культуре симфонизма была сама собой разумеющейся.
Но и эти соображения еще не исчерпывают обсуждаемого процесса. Решало дело все-таки эмоционально-смысловая настроенность кризисной поры. Человечество меняло мировоззрение, шла борьба понятий, мнений, традиционных убеждений. Люди переосмысливают и свой эмоциональный строй. Какими интонациями была насыщена эпоха, то она желала слышать и в музыке. Период «бури и натиcка» в Германии — это интонации страстные, восторженные, пафос, доходящий до надрыва, крика, исступления. Конечно, риторика фуги и подобных ей рационалистических конструкций не вмещала этого, но в вокальном искусстве — особенно в сфере речитатива, декламации, в музыке циклов «Страстей»—страстная патетика уже была налицо, как и в различного рода органных импровизациях. Но то же время знало и созерцательно-величественные интонации не только в лирике и драме, но и в речах ораторов, в книгах философских размышлений и в общении письмами — в эпистолярном языке. Параллельно шло становление сентиментализма. Еще не было психологического реализма, с его анализом личной душевной жизни, еще не неистовствовали романтики, выдвигая культуру чувства, а масса уже жаждала слышать «простую речь» и мелодику сердечную и волнующую; ибо приближалось господство семейственности, чувствительности, культа «простых нравов» простодушных людей и «домашности», умиления перед природой, тихой созерцательности. Соответствующие всему этому интонации вызвали в музыке романсовый мелос, задушевный, сердечный; и слова, и мелодия, большей частью не притязавшая на длительное развитие, овеяны были единым интонационным строем — «звучанием от сердца к сердцу».
Глюк является выдающимся носителем и выразителем интонационных чаяний предреволюционного времени. Один из умнейших композиторов, четко осознавший качества музыки как живой речи, интеллектуалист, глубоко понимавший, что музыка, как и поэзия и драма, не «вещание наугад и по наитию», а «осмысленное делание», — он ставил перед собою ясные и определенные реформаторские задачи. Он изумительно постиг, что именно, как и почему жаждут слышать люди в музыкальном театре, и создал ряд выразительнейших лирических трагедий, насытив их желанными эпохе интонациями, а через них и современным содержанием. О реформе Глюка спорили без конца. Дело тут не в единстве слова и музыки. Это вовсе не было новостью, в особенности для французов XVIII века, с их исключительно чутким пониманием культуры «лирической речи».
Сущность его реформаторства заключалась в том, что он нашел новые формы этого единства через внедрение в музыкальный театр современного «конфликтного» интонационного содержания. Эпоха «бури и натиска» внушила ему интонации бурного страстного пафоса; этическая направленность философской мысли и политического недовольства вызвала интонации. предгрозовых предчувствий, величавых помыслов и убеждений, а рядом со всем этим трагически ощущавшимся строем жили интонации «от сердца к сердцу» — интонации нового мира чувствований, к которым влекло всех. Наступившая революция вполне почувствовала, приняла и оценила дело Глюка. Итак, в его реформе ему приходилось думать не столько об единстве слова-музыки, а о новой выразительности, вытекающей из нового эмоционального строя и содержания интонаций окружающей среды. Сознательно или нет, но каждый чуткий, умный композитор остро ощущает малейшие нюансы, перебои и тем более смены в интонационном строе своего времени — в том,![]() как высказывают свои помыслы и чувствования люди. И каждый кризис в музыкальном театре, и каждая реформа оперы начинается с ощущения несвоевременности, устарелости, мертвенности интонаций хотя бы еще признаваемых образцовыми произведений, а кончается заменой их произведениями нового интонационного строя, как носителя современных мыслей и чувствований. Поэтому Глюк, Гретри, Вагнер, Даргомыжский, Мусоргский формулировали свои реформаторские идеи различно, но сущность их дела оставалась схожей. «Иное» заключалось в разности эпох, места, времени и исторической ситуации.
как высказывают свои помыслы и чувствования люди. И каждый кризис в музыкальном театре, и каждая реформа оперы начинается с ощущения несвоевременности, устарелости, мертвенности интонаций хотя бы еще признаваемых образцовыми произведений, а кончается заменой их произведениями нового интонационного строя, как носителя современных мыслей и чувствований. Поэтому Глюк, Гретри, Вагнер, Даргомыжский, Мусоргский формулировали свои реформаторские идеи различно, но сущность их дела оставалась схожей. «Иное» заключалось в разности эпох, места, времени и исторической ситуации.
Глюку, пожалуй, труднее было найти соответственный ритм слов, да и вообще поэтическое соответствие своей музыке, чем обратно. Ведь он имел дело с итальянским строем речи и вокала и впоследствии с французской поэтикой, будучи сам немцем. Но если реформа удалась, то в этом еще одно существенное доказательство, что сущность ее была в новом интонационном содержании, и новой смыслово - эмоциональной экспрессии, а затем в силе «техники» отбора словесного материала сообразно уже качествам данного языка. Глинка, как типично интонационный композитор, задумав создание национальной русской оперы, очень-очень мучился— уже, осознав музыкально-интонационный строй — с поисками текста, как адекватной словесно-интонационной ткани. И для него суть дела была не в том, хороший или плохой поэт делает либретто, ему нужен был чуткий к необходимым для него интонациям пусть даже версификатор. То же было и с Чайковским.
В бурные годы французской революции происходил отбор интонаций, наиболее отвечавших эмоциональным «запросам» масс. В кругу этих интонаций, в их варьировании и переинтонировании, в их ритмическом преобразовании, путем ли острой подчеркнутости и перемещения акцентов, путем ли игры длительностей внутри напева, — словом, в их постоянном воссоздавании интенсивно работало творческое изображение ведомых и неведомых композиторов, чутко сообразовавшихся с желаниями революционного народа: музыка отвечала действительности и воспринималась как реальное, не надуманное искусство. Таким оказалось на данном этапе искусство четко сконструированной, быстро охватываемой сознанием и легко запоминаемой мелодии как романсно - песенной, так и танцевальной, остро-ритмичной. Без сопровождения эти напевы звучали полноценно, но все же их строение подсказывало гармонию — простейшую,— и потому подобный мелодический стиль являлся гомофонным. Парижская песня и песня-танец эпохи революции, широко распространяясь, оказались тем историческим клином, который расщепил музыкальное развитие на музыку до Бетховена и последующую, после него, музыку XIX века. Хотя Бетховен тридцать лет прожил в XVIII веке и революцию встретил 19-ти лет, именно с него, с французской революции начинается новая эра музыки—музыкальный XIX век, и всегда кажется, будто Бетховена в XVIII веке и не было. Интонации и ритмы музыки французской революции сыграли в его творчестве своей динамикой и пламенностью громадную роль; сами они в этом могучем сознании развились и созрели. Ритм как стимул экспрессии и жизненного подъема, а не как механический принцип конструирования, становится в бетховенском симфонизме, можно сказать, перводвигателем. В тесном единении с интонацией ритм — «проявитель» бетховенских идей, дисциплинирующий ход и воплощение мыслей и одновременно способствующий гигантскому разрастанию возможностей музыкального развития. В сущности, именно у Бетховена, в чьем творчестве воплотились насущные жизненные задачи музыки на великом историческом перевале с XVIII на XIX век, развитие, как основа симфонизма, как ключ к сказочным возможностям мышления в музыке и музыкой, проявляется «впервые» в полноте всех своих средств. Точно так же возрастает и углубляется значение интервала как носителя интонационного напряжения, потому что соотношение тональностей, их взаимозамещение, их звеньевое включение друг в друга и «арочное» переключение обусловливается их интервальными сопряжениями — качеством интонационных расстояний. Интервал, показатель степени напряжения интонации, вступает теперь в строение формы и преодолевает конструктивный схематизм, навязанный музыке поэтической метрикой и танцевальностыо, с ее мерным механическим «тактированием» музыкального движения, сковывающим музыку, как мышление и развитие мыслей. Бетховен понял значение формы, как схемы, и не разрушал «конструктивизма периодов», но, преодолевая инертность этих норм, подчинял их развитию как главному «пособнику» в росте возможностей музыки — носительницы идей.
«ЖИЗНЬ» МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Музыка, созданная композиторами, является не только исполняемыми, играемыми произведениями, но колоссальным сводом интонаций, тех, что слушатели вобрали в свое сознание из «звучащего искусства». Эта сокровищница, накопленная восприятием поколений и сохраняемая, как «память сердца», то уменьшается, то приумножается, если исполнительская практика выходит за грани положенных opus/ов. Но, независимо от этих уменьшений и приумножений, культурное сознание человечества прочно хранит творческий образ и интонационный образный комплекс, вполне содержащий в себе самое дорогое для людей. Так, музыка композитора, вырастая из интонаций предшествовавших эпох, сама становится объектом интонирования исполнительского - профессионального и широких общественных слоев слушателей и питает музыку и всю духовную культуру последующих поколений человечества. Этот процесс продолжается до тех пор, пока жизненное содержание интонаций данной музыки не исчерпается, перейдя частично, в преобразованном облике, в творчество новых эпох. От музыки даже величайших композиторов в этом «становлении исчерпывания» остается все меньше и меньше, пока ее больше не слышат: ушло ее содержание, ушла ее душа. Утонченный слух знатоков, извлекая «музыкальную старину», может научиться понимать забытую человечеством музыку и даже «вчувствоваться» в далекий мир звуков. Но это уже не живое восприятие, не то, каким бывает ощущение еще существующей в общественном сознании музыки.
Такова истинная жизнь «звучащего искусства» каждого композитора; она длится, пока живут и действуют его интонации, действует творческий опыт, преобразуясь и претворяясь. Такова же и реальная история музыки, не литературная, которая блестяще описывает, анализирует, пересматривает, хвалит и порицает.
«Исчерпывание» содержания интонаций – процесс длительный. Трудности, связанные с фиксированием в сознании сложной музыки, в силу ее интонационной «комплексности» и необходимости повторных впечатлений тормозят процесс включения в круг привычно осознаваемых интонаций новых звучаний. «Общественная память» музыки поэтому очень консервативна. И то, что интонационно закрепляет в ней говорящее уму и сердцу, держится прочно, переживая поколения. Консервативность воспринимающей общественной среды хорошо известна исполнителям, не склонным к любознательности и расширению репертуара, ибо публика любит слушать знакомое, что естественно: меньше внимания для усвоения и больше удовольствия. Поэтому самый проницательнейший ум композитора, работающий интонациями, которые, как он принципиально убежден, правдиво познают и отражают действительность, но которые требуют высокой культуры слуха, может наткнуться на непреодолимые препятствия в распространении своей музыки, и не столько в слушателях, сколько в среде косных исполнителей и музыкальных деятелей-организаторов. Слушатель всегда более чуток, и даже сквозь свой ограниченный слуховой опыт он ощущает жизненную музыку там, где профессионалы еще толкуют о ней с точки зрения ремесла и вкусовой технологии, тормозя ее появление на концертной эстраде. «Борис Годунов» Мусоргского был тепло встречен студенческой молодежью и энтузиастами национальной музыки, а не профессионалами. Передовая публика принимала музыку Мусоргского «без исправлений», а «цензура профессионалов» в отношении к своеобразнейшему и самостоятельнейшему явлению русской музыкальной культуры оказалась жесточайшей. И к чему тут лицемерная маска, что все «поправки» делаются для улучшения звучности! – Кто вас об этом просит? Тогда исправляйте язык Льва Толстого и картины Репина с позиций последующих «грамматиков» и художников импрессионистской свето - цвето-красочной гаммы.
Ссылки на то, что всякое подлинно-талантливое произведение пробьет себе путь, неверны. Это обман слушателей, которые не могут знать, сколько во всей истории европейской музыки, хотя бы 20 в., было произведений, либо не нашедших исполнителей, либо загубленных непониманием исполнительским, либо не изданных, либо вообще не воспроизведенных или исполнявшихся только в узком кругу друзей. Как талантливое произведение пробьет себе путь, если его сыграют кое - как или его вовсе не исполняют? Известно, как медленно происходило освоение бетховенской музыки, как его симфонии – столь цельные своей идейной обобщенностью, единством концепции – исполнялись фрагментарно, отдельными частями. Если бы Берлиоз и Вагнер не были превосходными дирижерами, если бы даже столь популярный композитор, как Григ, сам тонкий пианист и аккомпаниатор пения своей супруги, чуткой исполнительницы его вокальной лирики, не пропагандировал своей музыки, сомнительно, чтобы их искусство сравнительно быстро завоевало даже Европу. Недавний пример – Скрябин. И опять слушатели в отношении к нему были впереди профессионалов и, конечно, критики.
Поэтому нельзя рассматривать исторические процессы в музыке, ограничиваясь суждениями об отдельных произведениях, стилях и композиторах. Необходимо отдавать себе строгий отчет в судьбе тех или иных явлений и не взваливать последствия на непонимание слушателей и неталантливость произведения. Если отбор шел по линии талантливости или неталантливости, то почему в концертно-театрально-исполнительском «обиходе» и в бытово - повсеместном и домашнем музыцировании во всякую эпоху количество бесспорно классических, совершенных созданий ничтожно в сравнении с музыкой или ничтожной или пошлой? Очевидно, отбор музыки в «общественной слуховой памяти» происходит по каким-то другим путям, чем думают и профессионалы-технологи музыки и музыкально-эстетические судьи, обычно очень близорукие, если не просто расчетливые в своих оценках. И слушатели, получая повсеместно лишь то, что им воспроизводят из созданий композиторов или что допускают к исполнению критики, не подозревают, сколько музыки они не знают. «Сценическое становление» даже таких популярных опер, как «Фауст», «Кармен», «Травиата», «Евгений Онегин», было очень извилисто, прежде чем эти всем известные произведения получили свой более или менее отвечающий замыслам композиторов стиль исполнения. Вмешательство и борьба композитора за характер исполнения во многом улучшают положение, как это было с Верди, но не каждый это может делать: «вперед завоюй популярность, а тогда посмотрим!» Некоторые произведения так и живут и доживают жизнь в сразу же искаженном облике, если композитор не успеет свести практику исполнения к собственной «прижизненной» редакции.
Исполнительская культура – дело громадной ценности, и не кому в голову не придет отрицать это. Все это Асафьев рассказывает, чтобы объяснить, каково и как сложно «средостение» между творчеством (композитор) и восприятием (слушатель). Но само-то средостение (исполнительство) есть последовательное, закономерное и неизбежное следствие самой интонационной природы музыкального искусства: вне общественного интонирования музыки в социально-культурном обмене нет. Произведение непроинтонированное существует лишь в сознании композитора, а не в общественном сознании. Оно существует и в нотной записи, может быть и издано, но для общественного сознания она останется немой. Неуслышанная музыка не включается в «слуховую память» людей, а, следовательно, и в «сокровищницу» общепризнанных обществом, средой, эпохой и, конечно, классом интонаций, «питающих мысль и волнующих сердце».
Вывод ясен: консервативность слушателей, на которую многие лицемеры-дельцы, в своих интересах ее использующие, жалуются, в сильной мере обусловлена косностью исполнителей или увлечением их внешне виртуозной «работой пальцев и голосовых связок». Ограниченность исполняемого репертуара и бессмысленный блеск вызывают и у слушателей притупление внимания и малый интерес к новым творческим фактам. Повторные исполнения все одного и того же круга «вещей на верный успех» само собой приводит к инертности и слух, и сознание слушателей. Музыка становится или своеобразным гипнозом или развлечением. История непосредственных встреч и общений со слушателями показывает рост интереса к данному творчеству и более быстрый процесс усвоения данной музыки.
Когда еще было живо искусство импровизации, и композитор выступал в этом качестве мастера, возникало еще более тесное общение и обоюдно интонационное внимание между ним и слушателями: происходила проверка и оценка воздействия и значимости музыки, создававшейся, как говорится, «из-под пальцев», «на слуху», и композитор – по реакции слушателей – мог и ощущать, и осознавать смысл и степень интонационной значимости «звучащего материала», которым он пользовался, и содержательности исполнения.
Когда замолкло это великое искусство «устного творчества», непосредственной импровизации, начался ужасный процесс разъединения композитора и слушателя, творчества и восприятия – один из разъединяющих музыку интонационных внутренних кризисов. Он приводит к самостоятельной, в отрыве от творчества, исполнительской «самолюбующейся» формальной виртуозности. Ограниченное узким репертуаром, играющее на природных трудностях восприятия музыки и коснеющих от повторного слушания все одной и той же музыки навыках слушателей, самодовлеющее исполнительство из деятельности, растившей творчество «настоящего времени», становится его тормозом. В интонационном искусстве исполнительство и является проводником композиторства в среду слушателей: оно – искусство интонирования. Если оно само мертво, оно мертвит и процесс накопления «интонационного богатства» в общественном сознании, и запасы «музыкальной памяти» иссякают или наполняются все сильнее и сильнее дешевой развлекательной и чувственной интонационной стихией – язвой музыкального урбанизма – «бульварного кабаре-пошиба». Морализующим донкихотством было бы объявлять утопические запреты этой «музыки вне музыки», раз ее вызывает чувственный спрос неврастенической толпы, - это страшная сила. Она калечит «слуховую память» массового восприятия и художественный вкус, понижая ценность всегда, «на слуху» у множества людей, бытующего запаса интонаций. Оградится от нее трудно и композиторам, как от «приманок широкого спроса», гарантирующих успех, если не уходить в гордый уединенный интеллектуализм. Этические стимулы и этическое содержание творчества снижается, или же образуется резкий разрыв между творчеством и «слуховыми навыками» слушателей. Все это дало себя знать в Западной Европе с конца уже 19 века, у нас же – после постепенных «уходов из жизни» друг за другом великих мастеров русской музыки классической поры ее расцвета. Этическая принципиальность их творчества не могла не оказать глубокого влияния на интонационное содержание, и тот отбор «любимых интонаций из русских классиков», который закрепился в сознании русского общества, перешел после Великой Октябрьской Социалистической Революции в сознание небывало широких слоев слушателей и распространилось по всем странам бывшего СССР. Массовая музыкальная самодеятельность – большое музыкальное культурное движение – в сильной мере содействует популяризации, накоплению, освежению и закреплению в сознании масс ценнейшего интонационного наследия.
19 В. ТЕМБРОВОЕ И ИНТОНАЦИОННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ МУЗЫКИ В ЕВРОПЕ
Минувший XIX век — век музыки — не знал бурных переворотов в интонационном содержании, как эпоха
образования многоголосия, как хорал протестантских общин в течение религиозных войн, как начальный период выступления оперы — самостоятельный музыкальный театр — на фоне здорового расцветания мелодии bel canto, как предбетховенское и бетховенское время становления романса, массовой песенности в годы революции и симфонизма. Как ни кажется парадоксальным подобного рода утверждение, оно объясняется так: музыка XIX века, при всем разнообразии ее жанров, «форм», школ, систем, направлений, лозунгов и крупнейших стилевых образований, не говоря уже о стимулах всего этого: о сменах и борьбе мировоззрений и мироощущений в эволюции общественного сознания, — основывалась на ритмо - формах и голосоведении, выработанных классиками и вдохновленных на долгую жизнь гением Бетховена. Голосоведение оставалось классическим, потому что коренные принципы и основы европейского лада, мелодики и гармонии, в сущности своей, оставались неизменными и у ранних и поздних романтиков, и у психо - реалистов, и у сторонников академизма, и даже у ярых врагов академизма — у импрессионистов. Дебюсси по строгости и по интонационному совершенству голосоведения, конечно, классик из классиков, и он не зря иронизировал над присвоенным ему ярлыком: «импрессионист». Совершеннейший классик — Шопен. Таковы же: Брамс и Чайковский, Глинка и Бизе, Стравинский и Хиндемит, ибо даже из сопротивления классицизму, если оно органично в эволюции интонации, рождалась еще более сильная и все-таки в сущности своей европейско - классическая логика голосоведения. И пока выработанные вековой борьбой нормы голосоведения, воспринятые не как мертвые схемы, а как интонационные процессы, не изменятся во всей их жизненной целесообразности, это голосоведение может видоизменяться, попадая в полосу «кризисов интонаций», но не разрушится. Оно создалось, как становление, как процесс, жизненный процесс присущего европейскому человечеству модуса интонирования и качества интонаций.
Есть все основания полагать, что европейское голосоведение имеет прочные корни в народном сознании, потому что у нас в странах бывшего СССР, где решительно переоценивались все явления европейского музыкального искусства, и «кризис интонаций» был явно ощутим, вызывая не раз глубокий раскол и идейные споры, — наша народная массовая музыкальная культура всецело приняла европейское голосоведение, как классическое, и отказываться от него не собирается ни во имя архаических, ни во имя субъективистических «пережитков» и «опытов разложения или восполнения лада». Приведение европейского голосоведения к «классическим нормам» стало возможным после принятия массовым слухом «равномерной темперации». Если бы эта реформа была абсолютно неприязненна европейскому интонированию, она или не принялась бы или затормозила весь ход развития европейской гомофонии, гармонии и симфонизма. Значит, равномерная темперация оказалась той «равнодействующей интонационных качеств», которая обусловила прогресс музыки, значит, в самых состояниях и качествах интонирования в Европе заложена была необходимость внесения дисциплины, уравновешивающей многообразие интонаций инструментальных, то есть все-таки механизированных, которые и надо было привести к некоему единству. «Общественное ухо» слышит с неудовольствием малейшую фальшь — отступление от «чистой настройки», требуя от инструмента единства метода интонирования, а против «равномерности» не возражает, поправок не вносит и слушает, мысля и чувствуя музыку, а не «производное из акустики комбинированное звукосочетание». Интонация человека всегда в процессе, в становлении, как всякое жизненное явление. Человечество — социальное—строит и музыку, как деятельность социальную: и ритм и интонация для человека — им перестроенные, переосмысленные в трудовых процессах и эволюции общественного сознания — факторы, а не «подарки природы», которым беспрекословно подчиняется человеческий слух.
Обо всем этом Асафьев еще раз говорит, чтобы выяснить противоречие между удивительным размахом 'творческих сил и идейного содержания музыки и, казалось бы, замедленным действием «отбора интонаций природы», то есть обогащения самого материала музыки этого века. В темперации ли, как тормозе, тут дело? Во-первых, когда мы рассуждаем о прошлом музыки, мы сокращаем «временные расстояния, и перемены, происходившие веками, не чувствуя уже длительности веков, принимаем за близкие, чуть не соседние. Языкознание, в своих наблюдениях за процессами языковых изменений, научилось быть осмотрительнее в определении расстояний. В искусствознании — история и теория живописи тоже стала считаться с «глазами» человека. Музыковеды, большей частью, определив истоки, место в истории и стиль произведен], занимаются им как эстетическим объектом, то привлекая суждения современников, а то и с позиций критериев сегодняшнего дня, но, не интересуясь причинами его жизнеспособности или нежизнеспособности, или толкуя их вроде как бы: Бах — великий музыкант, музыка его возвышенная, прекрасная (благо — это легко утверждать, не вызывая споров и еще ставя Баха в пример современным нам композиторам). Но надо же понять, что в музыке, как искусстве слушаемом, не только «новые изобретения» интеллекта композитора медленно осознаются воспринимающей средой, но и самая технология во всем ее многообразии усваивается с исключительной постепенностью и поступенностью.
Верно, что XIX век в музыкальном искусстве — век великих композиторов-индивидуалистов. С музыкой этого века произошло то же, что и с итальянской живописью Ренессанса: ведь не только в последовательном ее развитии от кватроченто к сеченто (XV—XVII века) оказалось созданным столько замечательного, что средний уровень тогдашней живописи был выше вершин других эпох, но в одновременности, внутри отдельных «групп годов» жили гиганты искусства, чье творчество — тоже индивидуально несходное — далеко вперед обогатило величайшими произведениями самые изысканные и жадные до новых впечатлений умы. Оно внушило множеству людей воззрения на живопись, обусловленные яркими, западающими прочно .в сознании впечатлениями, и эти воззрения стали основным критерием живописности до открытий импрессионистов, внушивших если и не иное, то по-новому обогащенное видение окружающей действительности. Такой проницательный, острый, сверлящий и дальнозоркий ум, как ум Стендаля, своим анализом чувств и страстей человека решительно сдвинувший европейский роман, в «Истории живописи в Италии» останавливается с пытливым изумлением — через три века от Рафаэля, Микеланджело, Леонардо да Винчи — не только перед этими гигантами. Чувствуется, что он сопротивляется, хочет освободиться от «измерений живописного», завещанных Ренессансом, раскидывая там и там меткие оговорки! А, в конце концов пишет искристые положительные характерные «отзывы» и «обобщения» своих наблюдений, искренно отдаваясь возвышенному художественному волнению.
Музыка XIX века, отправляясь от Бетховена, раскрывает перед человечеством еще далеко не исчерпанный мир столь же возвышенно-волнующих интонаций. Не только звезды первой величины, но и малые и меньшие звезды, скромно и все же своим светом и цветом мерцающие, отражают —- среди жестокостей века — прекрасное в человеке и в воспринимаемой им действительности. Музыка их, конечно, психологична и вообще не старается не быть музыкой человеческого сердца: и Берлиоз, и Шопен, и Лист, и Шуман, и Мендельсон, и Вебер, и Глинка, и Шуберт, и Вагнер, и Чайковский, и Верди, и Визе, и Григ, и Брамс (это лишь малый список!) — как бы различны ни были их дарования, сила воображения, интеллект, вкусы, характеры, направления, творческие методы — все наблюдали психику человека и сочувствовали неизбывным вопросам о смысле жизни, возникающим в человеческом сознании. Если Шуман излагает свое «зачем» почти афористически, с предельным лаконизмом, то другие делают то же с не меньшей напряженностью в развитых симфонических концепциях, и от всего лучшего, глубоко художественного, индивидуально сердечного и интеллектуально возвышенного в этих «вопросах жизни к жизни» современное человечество тоже пока не хочет отказываться— надо сказать прямо — во имя музыки объективной, внеэмоциональной и пытающейся миновать человека. Очевидно, музыкальное наследие XIX века, независимо от своей эстетической диференцированности, глубоко содержательно интонационно. И оттого мы, современники величайших экономических, политических и социальных переворотов, приученные страшными войнами владеть собою перед неисчислимыми бедами и потерями, еще дышим, пламенностью чувств интонаций Шопена, Шумана, Чайковского, детским чистосердечием Шуберта, наслаждаемся античной ясностью гения Глинки и яркостью воображения Берлиоза. Вот, по мнению Асафьева, основная причина кажущейся замедленности прогресса музыки и ее средств выражения: мы еще в атмосфере волнующего нас интонационного содержания великого музыкального века.
Здесь автор предлагает еще одну гипотезу, касающуюся выразительных качеств «равномерной темперации», из-под эгиды которой не выходит еще европейское искусство звуков, хотя акустически-математические данные неопровержимо свидетельствуют о ее недочетах. Быть может, развитие европейской музыки даже в пределах этой темперации так упорно шло к осознанию тембровой интонационности, особенно к концу века, что слух наш уже настолько овладел комплексно-обертоновым интонированием, что вполне в состоянии перейти к новой стадии инструментализма «без привычных нам инструментов» — к управлению чистыми тембрами, как максимально чуткой выразительной средой. Только овладеть ими надо так, как великие скрипачи XVII—XVIII веков овладели скрипкой, заставив ее запеть; то есть творчески, а не механически-рассудочно. Думается, что в несомненной «чувствительности» композиторов XIX века к тембровому интонированию и таится «движение вперед», к новым далям выразительности, а, следовательно, к еще более художественно-чуткому познаванию реальности. Ум наш получит новые радости, управляя звучностями, в сравнении с которыми вся наша система интонирования покажется нашим далеким потомкам еще менее их волнующей, чем волнует нас архаичность суровых напевов грегорианского хорала.
Недаром первой, безусловно, необычной композиторской личностью прошлого века был Берлиоз: он не инструментовал своих идей, он их мыслил только темброво - инетрументально. В его оркестре было самое важное новое качество: тембр, как интонация. Он сам шел ощупью. А «мерить» его творчество стали мерами «академической элементарной теории». Получился вздор. Голосоведение Берлиоза, его мелодика и гармония безупречны, где они — одно целое с его ощущениями тембровыми, но он сам «хромает» порой, идя по шпалам школьной гармонии и абстрактного голосоведения, и становится нестерпимо неряшлив. Не поняв основного противоречия в музыке Берлиоза, аналитики отделили его «прекрасную инструментовку» и его, как «ловкого инструментатора», от интонационной сущности его творчества. Сущностью стали считать берлиозовскую программность, «образный симфонизм», описательную изобразительность. А программность была для него «ариадниной нитью» из лабиринта академизма в атмосферу тембра, как интонации. Такой нитью она действительно и осталась для последующих «искателей языка тембров». Но не все «программные симфонисты» были в числе этих искателей. Берлиоз же остался с трагической, надломленной, запутавшейся душой — «рыцарем одиночества», особенно в своей беспомощности перед бесстыдной чувственностью Вагнера. В другой сфере, противоположной оркестру Берлиоза, взошла звезда разума и изысканного вкуса — в сфере пианизма. Это — Шопен. Он доказал, что рояль, в сущности, «речь тембров», чуткая, страстная, контрастная в своей патетике. Право же, если отнять у шопеновского мелодического материала его «тембровую атмосферу», его воздух, музыка во многих своих моментах вянет. Значит, обаятельность и сила Шопена — в его волшебном, логическом знании инструментовки» фортепиано, самой трудной — труднее, чем оркестровая — из всех искусств инструментовки, потому что она не выводится из зазубривания диапазонов, регистров и трелей по нормам — количественным — учебников. Пианизм знает инструментовку только от слуха и слышания выразительности тембровой интонации — и тогда рояль перестает быть «ударным инструментом».
Этих двух наглядных примеров достаточно для того, чтобы наблюдательный слух мог «пройтись» по всей музыке прошлого века и нашего двадцатого: тогда картина станет ясной. Осознание тембровости как интонационно-выразительного качества проходит «ариадниной нитью» до наших дней и является, в условиях классического голосоведения и при конструктивных канонах, даже отставших от бетховенских, самой яркой, прогрессивной областью музыкальной мысли, изыскующей новые пути художественного познания действительности. Нельзя сводить ценность этих изысканий к «прогрессу инструментовки», как характерному для композиторов XIX века объекту деятельности. Инструментовка XVIII века развивалась не менее прогрессивно и интенсивно и тоже вкусно. Но там было еще недалеко от едва ли не ремесленного понимания оркестровки, и далеко до осознания выразительности «речи» тембра-интонации, с подчинением инструментовки воздействию темброво-комплексного голосоведения. Правда, предчувствия этого были и в XVIII веке, но не до полной трансформации всех элементов композиции в «язык тембров».
Путь к тембру, как выразительному элементу музыки, шел через очень распространенное ощущение и понимание тембра как фактора изобразительности, как выявления звукокрасочности. И в 19 веке именно тембровая изобразительность была преобладающей. Нельзя смешивать стадию — современную — понимания тембра, как выразительной речи, от тембра, как «раскрашивания интонаций». В последнем случае тембровость приложима к любой музыке, как бы наслаиваясь на нее, в первом же тембр определяет собой мелодию, гармонию, ритм, образность, то-есть становится интонационным единством. Например, начало «Весны священной» Стравинского с выразительнейшим «наигрышем» фагота: тембр стал образом. А ведь уже тогда слух был очень избалован красочными лакомствами французского импрессионизма, легко усваиваемыми. Так Черепнин в своей музыке, приятной лирически, со вкусом прилагал тембр, как краску, к самому разнообразному материалу и достигал, как и многие, очень красивой расцветки и игры красочных пятен. Но это уже начал давно делать и делал прекрасно на протяжении всей своей блестящей художественной деятельности Римский-Корсаков. Современники даже с каким-то упорством отделяли в нем талантливого композитора от прекрасного, «вне сравнений», инструментатора. Однако проницательный ум чуткого к тембру композитора вел его вперед и вперед: когда, уже после смерти Николая Андреевича, поставили «Золотого петушка», то впечатление от второго акта было потрясающим: тембры оркестра и голоса Шемаханской царицы стали живым, выразительным языком. Если бы не досадная комедийная, вернее, оперно-шутовская ситуация с натуралистическими интонациями глупого царя и его воеводы, все время срывающими чудесную роль тембров, музыка эта была бы открытием нового мира интонаций.
Не зря выше мы называли Берлиоза и Шопена. У обоих предчувствия выразительности и содержательности языка тембров были налицо. Шопен все же, как музыкант, интеллектуально тоньше и изысканнее Берлиоза, последовательно искал тембровой экспрессии, тогда как Берлиоз чаще увлекался чистой красочностью тембров при «безразличном» музыкальном материале. В его музыке много такой досадной «двусмыслицы». Но когда экспрессия и изобразительность совпадали, что за сила и блеск, что за яркие и реалистические образы возникали в его музыке! Взять хотя бы «Римский карнавал», «Шествие на казнь» в «Фантастической», байроническую выразительность «Гарольда в Италии», многое только языком тембра выражаемое, то-есть интонируемое, в качественно неровной трагедии-симфонии «Ромео и Джульетта», а особенно в «Реквиеме». Нельзя не напомнить, что умный, тонко наблюдательный Глинка в начале своей «Ночи в Мадриде» — вообще вся эта увертюра воспринимается, как ранняя-ранняя весна импрессионистской изобразительности — показал исключительный пример тембровости, как образной экспрессии, потом долго-долго не постигавшейся русскими музыкантами, хотя тембровой красочностью они увлекались. Только Даргомыжский в своем характерологическом вокальном стиле часто пользовался тембровыми нюансами и тембровой экспрессией человеческих голосов, как гибким и психологически-правдивым языком: и в романсах и, особенно, в «Каменном госте». Кое-где это заметно и в его инструментовке. Глубокой тембровой экспрессивности добился Чайковский в сцене Германа с графиней в «Пиковой даме»: это подлинная реалистическая тембровая речь. Стравинский, конечно, — выдающийся мастер тембровой выразительности. Кроме находок в «Весне», изумительна в данном отношении его «Свадебка» и особенно симфония для духового оркестра. Знаменитые пьесы для оркестра Шенберга раскрывают тембр, как дыхание, «мелос тембровых комплексов». То же у Альбана Берга в отдельных сценах в «Воццеке».
Тембровой изобразительностью и тембровой экспрессией композиторы XIX и XX веков стремились и стремятся преодолевать .косные академические традиции конструктивных схем музыки. Конструктивные нормы нужны и свойственны искусствам временным, как и пространственным. Но в музыке, при отсутствии «контрфорсов зрительности», эти нормы обращены были в совсем иное качество— в формы. И началось смешение жанров, видов музицирования, конструкции, теоретических схем, «форм», как построений с понятием «художественная форма», как единство содержания и его образного воплощения. В музыке это воплощение совершается во времени, в становлении—в одновременности и последовательности — элементов музыки и в непрерывном преодолении формальных схем. Переводя на язык образов, можно дать сравнение с ездой по далекому тракту: вдоль пути стоят верстовые столбы, они его распределяют на доли расстояний, но путь состоит из звеньев живых впечатлений, и, только пройдя его, путник постигает путь в целом. В музыке композитор проводит свою мысль, как звуко - интонацию, пользуясь, конечно, теми или иными конструктивными схемами. Но, как и верстовые столбы, сами эти схемы не звучат и ни о чем не рассказывают. Музыка становится единством содержания-формы в сознании композитора, вперед до слушателя совершающем путь, как воплощение интонируемой им мысли-идеи, чем и становится его произведение. Слушая, воспринимая музыку и делая ее состоянием своего сознания, слушатели «проходят путь, пройденный композитором», но привносят в него свои идеи, взгляды, вкусы, привычки и даже просто душевную расположенность. И все-таки, только прослушав, они постигают содержание произведения. Если они не слышат форму в целом, в единстве, они «схватят» только фрагменты содержания. Все это ясно и просто. Однако развитие музыки, как интонационного языка, было столь сложным, насыщенным столькими противоречиями, что только к эпохе Бетховена музыкальной мысли удалось стать самостоятельной, свободной, то есть обратить все элементы, все свойства и средства, организующие форму, в музыкально-выразительный язык. Да и то не все. Вот, например, тембр. Как свойство, он был всегда присущ звуку человеческого голоса и каждого инструмента. Это знали и порой акцентировали, как нечто исключительное. Но выразительным языком музыки, осознанно, тембр становится на наших почти глазах. Уточнить, когда появился интервал, как зафиксированное в создании расстояние звука от звука, невозможно. Интервалы же, как интонационно-выразительное качество — сопряженность тонов лада и при различных степенях этой сопряженности, — могли осознаться в таком содержании своем только уже при некоторой самостоятельности, независимости музыки и от «немого языка» человеческих движений, и от слогочислительной (силлабической) ритмики речевой (поэтической) интонации и т. д. и т. д. А вне сознания музыкальной (не акустической только природы) сущности интервальности неосуществимо было выявление основного качества музыкального мышления, а, следовательно, и нахождения пути к монументальным музыкальным формам, как полноценному раскрытию художественной идейности. Это основное качество — последовательность и одновременность звучания интервалов. Осознание данного процесса несказанно обогатило возможности музыки: возникло многоголосие, как интонационное мышление, с постепенным все большим и большим раскрытием самостоятельного интонирования каждого голоса, при комплексной, однако, трактовке «одновременности» звучаний. «Открытие» продвижения музыки через метод имитации и дальнейшее развитие ее принципов внесло «разрежение» в комплексность и «оживило» выразительность всей полифонной ткани. Только постепенное закрепление в сознании качественной диференцированности каждого интервала — его взаимосопряженности с остальными тонами в мелодической последовательности и в одновременной еще комплексной объединенности,— только это закрепление и в исполнительской практике и в восприятии слушателей могло содействовать дальнейшему процессу голосоведения и, главное, пониманию выразительной силы гармонии. Повышенное ощущение интервальной сопряженности вело в гармонии через централизацию старевшей ладовой системы {средневековые церковные лады) к мажорности.
Лады эти были тесно спаяны с представлением о музыке, как единстве ритмо - интонации слова-тона при господстве интонации грегорианского хорала. Европейская же гармония вырастала из постепенно складывавшейся новой диатоники с подчеркнутым осознанием второго в ладу полутона, как вводного тона. Характерность этого явления для интонационной природы европейской музыки бросается в глаза. Именно оно выявило качественную разновидность (на основе интервальной сопряженности) звуко - комплексов и —опять-таки очень медленно — обусловило их группировку по принципу их наибольшей и наименьшей напряженности и стремления к основному тону, к тонике. Из обостренности интонации вводного тона среди полутонов развивается еще ряд важных для формы, как процесса интонирования, следствий: в отношении ладовом стирается тетрахордность, давнее наследие средиземноморской музыкальной культуры, и звукоряд европейский становится интонационным единством — гаммой; отношении эволюции гармонии возникает чувство доминантности, все более и более осознаваемое, и ведет к ощущениям тональной диференцированности в нормах единого лада; происходит сближение музыкальной интеллектуальной культуры городов с народной музыкой, где - можно предполагать — уже стихийно эмоционально сложилось музицирование в мажорном ладу с наличием вводнотонности.
Кроме того, весь дальнейший ход развития европейской музыки показал, что ладовое становление не застыло, потому что все более интеллектуализировавшаяся мысль вызывала в интонации все более и более тонкие ощущения сопряжения тонов. Сперва «чувство вводнотонности» организовало мажорный лад, за этим последовало «впитывание» старинных ладов в сферу вводнотонности; это была проверка на интонационном опыте их жизнеспособности: таринные лады обобщались в мажорном ладу и «подражали» ему. Далее, из все более тонкого сопряжения полутонов, началось сложное интонирование, «переосмысление» ступеней мажорного тона с перенесением «чувства вводного тона» на наиболее необходимые для разрастания сферы доминантности ступени лада. Например, повышение четвертой ступени, заостряя вводнотонность, совсем уничтожает еще чувствуемую тетрахордность, делившую звукоряд на две аналогичные половины. Повышение второй ступени усиливает доминантность. Наоборот, понижение второй ступени, вводя вводный тон сверху, обостряет стремление к точке опоры, к тонике. Понижение шестой ступени лада при повышенной четвертой ступени вызывает много различных внутриладовых интонационных «переосмыслений». Почти через весь XIX век проходит интонационное «испытание» выразительных качеств вводнотонности на ножестве произведений, чему противопоставляется усиление воздействия диатоники путем скрещивания мажорного лада и его «тональных метаморфоз» с разнообразнейшими ладами, и давнеевропейскими и «экзотическими».
Примеров тому множество и в XIX веке и в XX, до наших дней. Музыка Шопена насквозь пронизана сложной связью и перекрещиванием обостренной вводнотонности и утонченной доминантности с народно-ладовой диатоникой. Это взаимодействие, с поразительной закономерностью проведенное, обусловливает исключительную жизнеспособность, выразительность всех элементов формы, всегда раскрывающейся в непрерывном интонационном становлении; а в результате восприятия остается в сознании ощущение ясности, стройности, уравновешенности, «тоничности» музыки-мысли, независимо от нервности ее эмоционального тона. У Шопена всё, каждая эмоциональная деталь, организует лад, как будто колебля его.
То же с формой. Например, можно спорить о схемах-конструкциях его баллад. А в них-то мысль Шопена течет с убедительнейшей закономерностью, благодаря неискоренимо убедительной интонационной логике. И, пройдя «путь каждой баллады» совместно с композитором, интонируя ее с ним, внимательный, мыслящий слушатель получает высокую интеллектуальную радость тесного, непосредственного соприкосновения с музыкой во всем богатстве ее выразительности.
Если в лице Бетховена объединилось «прошлое» и наметилось и «будущее» музыки, то XIX век оказался не только «собирателем» былого интонационного опыта, но и его колоссальным раскрытием. Поэтому осознание всех элементов, образовавших музыкальную форму, как проявлений интонационности, продолжалось с исключительным напряжением, что и проявилось в поисках тембра, как выразительного языка. На примерах Берлиоза и Шопена уже было ясно, как шла работа композиторской мысли и в каких бурных творческих противоречиях развивалась музыка, чем и доказывается, что сущность развития была не в технологическом, более или менее гибком применении усвоенных норм .музыкальной этимологии и синтаксиса. Все русла жизни наполнялись в начале века кипучей людской мыслью и работой.
Музыка в Бетховене созрела до уровня высших интеллектуальных проявлений человеческого мозга. Потому она могла принять участие во всех целеустремленностях интеллекта и эмоциональной жизни, жизни чувства. Интонация человека, как обнаружение в звуке музыкальном и словесной речи его идейного мира, всегда была наичутким проводником. Творческие замыслы становятся явностью для общественного сознания через проявление интонации либо в речи, либо в музыке. Но нервная трепетность и повышенный эмоциональный тонус общественной жизни нового века особенно отражаются на музыкальной интонации (даже поэзия в лице Ламартина и Байрона и Шелли ощутительно освежается музыкальноподобным лиризмом, музыкальной образностью). Чуткая к приливам и отливам моря жизни, музыка опять проверяет в живом творческом опыте свои выразительные возможности, к которым и приспособляются нормы музыкальной грамматики. Интонация испытывает их жизнеспособность, а не наоборот. Интенсивность этих испытаний и создала совершенную музыкальную технику XIX века, которая кажется самодовлеющей, тогда как она неподвижна только в музыкальных школах.
ПРЕОДОЛЕНИЕ МУЗЫКОЙ ИНЕРЦИИ
Попробуем выяснить, как музыка преодолевала свою собственную инерцию воздействием непрерывно обогащающегося образно-интонационного мышления. В симфонизме Бетховена упорно проявляли себя мощное утверждение, убедительность, ликование. Тоника, тоническое господствует, но не в чистом появлении тоничности дело, а в том, что каждое из появлений — не безразличное повторение тонического аккорда, а его возникновение из звеньев усилий. Взять хотя бы знаменитое целеустремление аллегро пятой симфонии: весь неистовый драматизм музыки возникает из «непрерывностей утверждений» (различной степени напряженности), каждое из которых достигается кратко и сжато, через противопоставление доминантности тонике, а не просто полагается. Что может быть теоретически проще этих звеньев градаций, внутри которых возникает полное созвучие наложением друг на друга тонов аккорда? Элементарнейшее из элементарнейших упражнение в гармонии. И вдруг, благодаря как раз динамике этих простейших градаций, благодаря стремительности их сцеплений в каждый миг и в целом, вырастает напряженнейшая музыка, одно из величавых бетховенских утверждений драмы жизни, не в созерцании, однако, а в образе и в красоте борьбы. Все движение мысли развертывается предельно лаконично, сурово и властно. В целом — безусловность утверждения, убедительность, художественное равновесие, а в сознании слушателя — трепет. Мысль нашла совершеннейшую, адекватную себе форму через выразительнейшее становление простейших (с теоретических позиций) интонаций. Значит, сущность художественной удачи — в концентрации интонируемой мысли, в наиболее целесообразных музыкальных высказываниях-выражениях.
Аллегро первой части пятой симфонии служит характернейшим образом-символом становления формы значительной части произведений симфонической музыки XIX века: в них основное, направляющее — градация звучности, ступени и интонационные «составы» которой крайне многоликие. Тут и сжатые «стретные» наслоения, и статика накопления звучностей на «органном пункте», словно останавливающем становление мысли ради собирания выразительной силы, тут и контрастные сопоставления тональностей с постепенным заполнением «прорыва» тональностями связующими; как в народной мелодике — постоянство чередований хода на широкий интервал и его поступенное выравнивание. Обобщая, можно сказать, что ни одно из имевших место интонационно закономерных «сопряжений» интервалов в мелодике прошлого европейской музыки не теряется в симфонизме XIX века, переинтонируясь в больших масштабах, в более мощных выразительных пластах музыки, но подтверждая тем самым определившиеся основные действующие силы музыкального оформления. Эти же силы обусловлены столь же определившимися в эволюции интонации несколькими «константами» — постоянностями музыкального высказывания, выявления мышления.
Не надо преувеличивать возрастания значения доминантовой «неустойчивости» и возникновения от нее якобы «расслабленности» лада. Интонационная сила «вводнотонности» действует двояко: и как направленность, целеустремленность к тонике, и как задержка, «пролонгация» напряжения этой направленности. То и другое зависит от качества высказывания, то есть — в какой строй идей и чувствований включаются данные «силы». Либо целеустремленность к тонике обращается в назойливое повторение ее, изымающее всякую убедительность, либо «вводнотонность» от чувствительной «рассыпчатости» ее окружения теряла силу целеустремленности (в так называемой «салонной» музыке, а также в интонационной «уютности» музыки домашней, «семейственной»); либо, обратно, насыщение «вводнотонности» полнокровными доминантовыми гармониями так повышает интенсивность состояний «ожидания тоники», что они становятся сами себе довлеющими. Образно можно сказать, что стадия собирания сил довлеет над решительным ударом. Преобладание такого рода «интонаций нарастаний» перед тоникой не всегда и не везде непременно «томление», непременно «нерешительность» и непременно «раздвоение» сознания. Не всегда это «рука с топором», застывшая в воздухе в нерешительном взмахе перед ударом. Качество мысли и эмоционального строя решает тут — целеустремленна ли интонация или нет.
Причины же интонационно-эмоциональных «разноречий» понятны: в XIX веке острота противоречий всех видов становления культуры и напряженность жизнеощущения не могли не сказаться на человеческих чувствах, но вызвали в них не одни отрицательные качества, а и небывалую чуткость и. тонкость зрения и слышания действительности, что не могло не сказаться на впечатлительности, восприимчивости слуха и вообще на повышенности тонуса интонационного строя. Характерная для XIX века «нервность» интонации — отражение изменений всей психики человечества, и трудно было бы музыке, как искусству интонации, не «отразить» явлений, обычно называемых «нервностью», «нервной жизнью»: а, не отразив их — не омертветь самой, не оторваться от характерной черты душевного строя современности.
Колебания в сторону того или иного интонационного «состава лада», конечно, обострили — для восприятия — неуравновешенность сопряжений звукоэлементов, потому что и сама композиторская мысль была отражением сложных общественных противоречий. Однако нельзя забывать, что в каждом искусстве бывают эпохи, когда высшая интеллектуальная закономерность и эстетическое равновесие достигаются не наглядностью «правильных соотношений», а через все видимости нарушения статики. А на расстоянии оказывается, что направляющий искусство ум, испытуя силу сопротивляемости и выразительности, исторически сложившихся норм художественного мышления и, откидывая вялые, омертвелые средства «высказывания», направлял художественное творчество к прогрессу. Надо всегда помнить, о великой триаде в области живописи: Леонардо да Винчи, Рафаэль и Микель Анджело — о последнем в особенности. Никто из них не был неправ. Вот если нет направляющей мысли, идеи, то говорить нечего: мимолетные человеческие суждения, пусть и содержательные, и волнующие, и очень необходимые в текущей жизни, все-таки — лишь суждения. Так и во всех видах искусства, так и в музыке. Например: устойчивость, коренная и вековая, русского крестьянского быта выковывает исключительно совершенные и насыщенные мудрой силой сопротивления формы художества. В музыке великое, непререкаемо совершенное искусство песенное. Стоило быту заколебаться, как «частушка», «городской романс», новые разновидности плясовой мелодики несут свой строй. И разве среди этих современных форм нет совершенных, созданных «правдой жизни»?
«Оглушенный» в той же мере физической глухотой, как — и если не сильнее, не глубже — упорным непониманием настоящей ценности его творчества, Бетховен в своих последних сонатах и квартетах, словно назло «блестящей и радостной жизни» победителей Наполеона, уходит в своеобразную сферу музыки вдумчивых монологов «наедине с собой».
Какой богатейший сверхчуткий душевный мир развертывает перед нами его испытующая людей и свое «я» мысль! Бетховенские интонации, как в свое время властная рука Микель Анджело, казалось бы, разрушают всю каноничность ритмо формул, конструкций, сопряжений. Мысль его акцентирует обычно навыявляемое, сильно — по - рембрандтовски — освещает, делает рельефным затемняемое, останавливается подолгу словно бы на деталях. Бетховен как бы откидывает мощные методы оформления симфонизма и обнажает «сущности музыки»: голосоведение и ритм, управляемые его волей. Ни самые патетические бетховенские Warum (зачем — почему страдания?), ни тихое величие радостного покоя в конце последней сонаты — не отнимают главного: существования надо всем ясной «разумности мысли» и воли человеческого ума.
А вот в конце века Скрябин. Искусство его полно тонкого артистического интеллектуализма, вкуса, жажды радости общения. Его утопическая философия возникает именно из стремления его, одинокого энтузиаста, прометействующего на пороге двух веков интеллигента, к радости всечеловеческого общения. И дело совсем не в нервности и трепетности, экстатичности его искусства, ибо этим качеством оно неизбежно было современно. Что-то другое утверждает спорность величия скрябинской музыки. Еще современники Скрябина ощущали противоречие между пламенностью и утонченностью его гармоний и равнодушной неподвижностью формы, то есть конструктивных норм и схем, и даже нежизненностью «периода». Мало того, скрябинские «развития» и в сравнении с бетховенскими наивны, и уступают ярко-драматизированному, насыщенному коллизиями чувствований симфоническому развитию у Чайковского.
Невольно напрашивается мысль о глубоком противоречии между организующим музыку интеллектом, ее идейным становлением и этической высокой настроенностью, и между «наплывами нового материала», «изобретением новизны» звуко - впечатлений. Живая форма, обусловленная качеством и силой интонации данной эпохи, всегда преодолевает косность схем и конструкций, либо расширяя, раздвигая их, либо отменяя. Те же конструкции, что еще продолжают жить, оказываются максимально жизнеспособными. И область сонаты, и симфонии, и увертюры, и камерности, и даже Lied — все было испытано сознанием Бетховена с точки зрения формы. А по новизне материала его музыка коренится очень глубоко в интонациях его современности. Глубоко коренится в интонациях своего времени, делая из них отбор художественно-эстетический и этический, и творчество Баха и Моцарта. То новое в «материале», что дают великие мастера, редко бывает субъективно-произвольно и редко не является требованием, вытекающим из всего идейного становления эпохи. Нельзя отрицать этого и в Скрябине; «готическая пламенность» его гармоний и экстатичность их, словно в духе Греко, отражали настроения своего времени. Но противоречие этой прогрессивности с почти не деятельной работой творческой мысли в области формы вызвало и вызывает до сих пор, со всеми чувствами удивления и любви к Скрябину, глубокие сомнения в жизнеспособности его музыки: не есть ли это сложный комплекс чутких, нервных и оригинальнейших лирических высказываний «утопического индивидуализма»? И не потому ли были тщетны все дерзания (и не только Скрябина) доказать жизнеустойчивость этого индивидуализма, что мировоззрение это давно стало обреченным? Не оттого ли и в музыке, подобной скрябинской, великое завоевание европейской музыкальной мысли-интонации — развитие начало терять свою силу, исчерпываться? Бетховен же в свое время опирался не на «обреченное», а на ж ивое, и его симфонические развития направили весь симфонизм XIX века.
Наряду с чуткой восприимчивостью интонационной качественности интервалов и стремлением сделать все выводы из мажорного лада вплоть до крайней психологической исчерпанности «вводнотонности» вся послебетховенская музыка ощущает на себе влияние развития. В нем музыкальная интонация находит возможность длительного динамизированного раскрытия мысли, не уступая завоеваниям речевой интонации в области поэзии, ораторского искусства и театра. Гибкость приемов развития в музыке позволила, как никогда подняться до вершин искусства области «поэтическо-образного симфонизма» (так называемая программная музыка). Вагнеровская музыкальная драма также многим обязана этому завоеванию. Вообще она была, конечно, не синтезом искусства, а творческим пересмотром и обобщением симфонических и драматических музыкально-интонационных стимулов развития и интонационной же поэтики.
И в камерной музыке — сфере музыкального интеллектуализма — если и недопустима стихийная сила романтических «приливов и отливов» интонационных волн, все же принцип развития открывал возможности осуществления больших надежд в послебетховенскую эпоху, что и доказали Брамс и С. Танеев.
Развитие в своей эволюции стремится преодолеть «конструктивный остов» сонатного аллегро, «снимая для слуха» четкое разграничение отделов (экспозиция, разработка, реприза), что еще начал делать Бетховен разрастанием вступлений, значительность которых преобразует прежние классические введения в «пропилеи» перед величавыми симфоническими становлениями. Бетховенские коды тоже подчеркивали развитие, являясь его вторичной — после разработки и репризы — стадией. Впоследствии все «составные отделы» симфонического аллегро пронизываются развитием (очень интересно это явление у Брамса), и само изложение тем (экспозиция) теперь излучает в каждом из своих элементов, особенно в строении мотивов, целеустремленность и способность к нарастанию. «Бетховенские градации» иногда у последующих симфонистов теряют свою силу, массивность и напряженность: симфоническое развитие становится при всей мощности интонационной динамики полно нервного, а не сильного, мужественного темперамента. Одно время было убедительным «взвинчивание», «набухание» звуковой динамики посредством секвенций и разного рода «крещендирующих» повторов, затем срывание этих нарастаний посредством так называемых «прерванных кадансов» и разного рода «отдалениями» появления тоники, чем достигалась еще большая интенсивность вторичного ожидания. Эмоциональная убедительность была очень сильной. Но и тогда наличие градаций «бетховенского стиля», даже в очень драматизированных стадиях симфонизма, не прекращало своего мужественного воздействия. Удивителен Брамс. В его симфониях и сонатах, концертах и даже в лирике (особенно фортепианной) — всюду ощущается развитие. Редкий «мотив» (мельчайшее интонационное зерно, можно сказать, лаконическая ритмо-интонация) не заключает в себе потенций развития. И, тем не менее, в целом все убедительно-монументально, даже эпично, повествовательно. Повествовательность даже ощущается как истинно поэмно - классическая неторопливость, но никогда — не от малокровия. И когда надо и «вместно» - ум Брамса создает великолепные темпераментные драматические страницы.
В этом великом эпическом симфонизме XIX века есть много общего с Флобером, и не только в выявлении мысли, которое у них у обоих всецело от интонации. Флобер старался видеть написанное им уже для себя услышанным; создавая, он говорил, интонировал свое повествование, вслух ища фразы, как Бетховен за фортепиано. Брамс, как музыкант, композитор, конечно, интонационен в более глубоком смысле. Но сближает их обоих другое—то, что и кажется объективизмом, бесстрастным, нейтральным и холодным: сближает их обстоятельность проведения мыслей, доказанность, обоснованность их. Не эмпирически, в импровизации, в творческом пламени находит Брамс «качество развития» своих тем, но они для его сознания ценны уже этим своим качеством, и словно они включились в произведение потому, что раньше, интонируя их в своем сознании, он познал их ценность, испытав их. И эмоционализм Брамса всегда воспринимается, как обобщенное, выверенное, взвешенное наблюдение, а не как внушение сильного впечатления, хотя такие впечатления могли и должны были быть и были у Брамса, как и у Флобера.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Музыка, конечно, не могла возникнуть из эмоционально-возбужденной речи человека, потому что и самая речь людская и музыкальная система интервалов, обусловливающая искусство музыкальных звуков, возможны только при наличии способности интонирования, то есть звуковыявления, управляемого дыханием и осмысляемого деятельностью человеческого интеллекта. Музыка — всецело интонационное искусство и не является ни механическим перенесением акустических феноменов в области художественного воображения, ни натуралистическим раскрытием чувственной сферы. Как всякая познавательная и перестраивающая действительность деятельность человека, музыка руководится сознанием и представляет собою разумную деятельность. Чувственный, то есть эмоциональный тонус, неизбежно присущий музыке, не является ее причиной, ибо музыка — искусство интонируемого смысла. Оно обусловлено природой и процессом интонирования человека: человек в этом процессе не мыслит себя вне отношения к действительности, и как речевая, так и музыкальная интонация не проявляется голосово - бескачественно путем механической артикуляции. Поэтому тонус человеческого голоса — становление психической деятельности в звучаниях — всегда эмоционально - смыслово «окрашен» и более или менее эмоционально напряжен, в зависимости от степени высотности. Но строем чувствований, звуково - выявленным, то есть интонируемым, всегда управляет мозг, интеллект, иначе музыка была бы каким-то «искусством междометий», а не искусством образно-звукового отображения действительности средствами голосового аппарата человека и музыкального инструментария, в значительной степени воспроизводящего человеческий процесс интонирования, особенно в становлении мелодии. Ибо мелодия в ее эмоционально-смысловой выразительности является всецело созданием человеческого сознания, как и ее основание — строго рационалистическая система интервалов.
Обычное определение интервалов — расстояние или отношение между двумя звуками — очень узко и механистично, вернее статично, ибо дело тут не в «циркуле» и не в якобы условно закрепленных звуках. Прерывны слова и прерывны тона, отдельные музыкальные звуки, но словесное и музыкальное чередование звучаний —-. это интонационные точки, «узлы», комплексы на непрерывно напряженной звуковысотности, на голосовом тонусе деревянной или медной трубки или тонусе смычка у скрипки. В этом смысле словесная или музыкальная «речь» непрерывна (с «цезурами» для вздоха). Найденные в опыте «звуко - арки» от данной до данной (в принципе любой) интонируемой «точки» закрепляются в сознании, в результате повторов, как вызывающие ожидаемое воздействие или образно-звуковое впечатление более или менее сходного качества. Это — причины и прообразы интервалов. Только в дальнейшей длительной эволюции возникает система связей выразительных звуко - арок, подобная звездному атласу или мыслимой звуко - сети, накинутой на непрерывное звукостановление в пределах данной высотности, тембра и голосовой установки, словом — некоего «тонуса речи».
Значительное число лет проходит в истории музыки, когда музыкальная интонация вращается вокруг какого-либо характерного для данной эпохи интервала, словно интонационного центра, вокруг которого наслаиваются и простейшие, и сложные интонационные связи. Например, кварта в мелосе французской буржуазной революции, секста у романтиков, как выражение своеобразного гексахордного лада, увеличенная кварта и уменьшенная квинта у русских «кучкистов», культура квинт у французских импрессионистов. Выразительность этих явлений так бросается на слух, что нельзя отделываться от них, как от «формальных факторов». Есть композиторы, чье дарование исключительно тонко чувствует общественно-выразительную значимость данного интервала на данном отрезке времени и группируемых вокруг него популярнейших интонаций. И это чувство проявляется не только интуитивно, но вызывает в интеллекте композитора вполне осознанное «управление» эмоционально-смысловым воздействием таких-то и таких-то интервалов. Русские композиторы психо - реалисты, особенно Даргомыжский, Мусоргский и Чайковский, исключительно владели этим даром. «Неслучайность» пользования интервалами, как интонационно-выразительными «воздействователями», у Даргомыжского поразительно последовательна. Конечно, «содержание интервала» не дано раз навсегда в какой-либо словесной формуле. Оно — всегда в соотношении, в процессе и в конкретно-исторической смысловой обусловленности. И в этом отношении — не менее последовательно и точно, чем содержание слова. Иначе говоря, выразительность каждого интервала мыслится безграничной, неизбывной, но исторически-конкретно, и психореалистически она ограничена. Кварта «Марсельезы» и кварта — характерный интервал в образе Дон-Жуана в «Каменном госте» Даргомыжского качественно различны, ибо различна их интонационная направленность.
Все, что тут сказано об интервалах, следует прилагать и к тональностям, интонационное содержание и выразизительность которых обусловлены их «интервальными» соотношениями друг с другом, чем объясняются и близость и дальность их родства, тоже не абсолютные, а в историческом процессе конкретно постигаемые.
Стоит только постигнуть, что лады, как и интервалы, суть выразительные данности музыки, а не формально-структурные элементы, как наблюдательному слуху раскрывается многообразная и многоговорящая жизнь лада в любую эпоху становления музыки. Так, в современной европейской музыке внутри всеобъединяющего мажорного лада всегда сосуществуют процессы ладовой диференциации и интеграции, постоянно отражающиеся в музыкальных произведениях. Явление вводнотонности ведет к распространению ощущения вводного тона на многие ступени лада, что в свою очередь влечет за собою более тонкое слуховое различение родства тонов и включение в мажор любой тональности, принадлежавшей, казалось ранее, далеко отстоявшему строю. Естественное продолжение этого процесса — превращение тонально-нейтральной хроматической гаммы в полутоновый лад различных составов. «Тритон», становясь свободным скачком голоса, то есть едва ли не консонансом, в своем заполнении точно так же дает «стиснутый» лад из шести полутонов, получающий громадное значение в современной музыке. В XIX веке окрепшая устойчивость большой сексты, как «консонанса вполне», приводит к исключительно интересному и, мне кажется, до сих пор ускользавшему от исследователей явлению: к возрождению и прочной консолидации гексахордности — теперь как лада. В русской классической музыке — у Глинки, особенно у Даргомыжского и у Чайковского, а также у композиторов бытового романса, данное явление наблюдается сплошь и рядом и поражает слух своей выразительно-смысловой стороной. Кстати, в своих многогранных мелодических претворениях гексахорд большой сексты является одной из максимально популярных, всегда эмоционально-чутко воздействующих интонаций — от ранних романтиков и до сих пор. Мелодисты XIX века великолепно это чувствовали, строя на основе гексахордности с захватом полутона сверху или снизу различнейшие по стилю мелодии. Например: «Форель» Шуберта, застольную песню из «Травиаты», «Увы, сомненья нет» из «Евгения Онегина». Гексахорд с захватом полутона над большой секстой представляет собой одно из частых проявлений миксолидийского лада.
Так называемые средевековые лады, то есть, в сущности, внутриладовые метаморфозы «тетраходов трех структур» никогда не исчезали из европейской музыки. А в связи с углублением тенденций к народности у романтиков эти лады соприкасаются с диатоникой народной музыки и вновь плодотворно оживают, преодолевая своей ясностью, строгостью и даже интонационной суровостью чрезмерную экзальтационную чувствительность хроматизированной доминантности. Такое преодоление «тристановскюй» чувственности особенно показательно в русской музыке, с ее сугубой народно-песенной ладовостью. Характерно также стремление преодолеть «распухшую доминантность» у Грига, с его излюбленным поворотом вводного тона после тоники вниз к квинте.
Становление лада всегда выражается в последовательном чередовании или одновременном комбинировании его интервалов: от скачка голоса к заполнению данного ряда и обратно — от заполнения к скачку. Сам по себе лад является постуленным чередованием закономерных для него ступеней. Человек, интонируя, то есть осмысленно руководясь интеллектом, и произнося звук — и словесный, и музыкальный, — находится в пределах своего «голосового тонуса», «держания голоса на некоем уровне». Это становление речи управляется дыханием, динамизируется и нюансируется аппаратами резонаторов, регулируется ритмом долгих и кратких длительностей и акцентно-тоническим. Непрерывно напряженный процесс звукоизъявления — тонность — отражен в многообразии ладов, как «музыкальных образов» данного процесса, суммирующих каждый по-своему его непрерывность. Поэтому основной закон всякой мелодической речи — заполнение скачка непрерывным рядом тонов является естественным стремлением звукового аппарата человека вернуться от прерывности (слог, слово, тон, интервал) к непрерывности звуко - голосового произнесения. Но и в самой прерывности — в интонационно-осмысленном чередовании различных звуковысотностей — существуют более и менее устойчивые опорные тоны, к которым прилегают льнущие к ним, как стержню, и к ним соскальзывающие звуки. Возможно, что они возникают от «перескакивания» интонации при эмоционально-повышенном тонусе за данный нормальный. предал. При частом повтор, того или иного «заскока» он становится привычным и может обратиться в самостоятельный интервал, и тогда уже не соскальзывать к своему опорному тону, а притягивать к себе близлежащий «полутон». Знаменитая в истории европейской музыки система гексахордов, отнюдь не является отвлеченно-схоластическим мудрствованием теоретиков-педагогов. Вероятно, она была одним из длительных этапов на пути интонации к завоеванию европейской октавы, как цельности, как единства, и преодолеванием тетрахордности, как исконной интонационной базы. Итак, жизнь лада непременно надо наблюдать в образовании и преобразовании опорностей, в прилегании, в притяжении к ним соседних звуков и в становлении новых опорностей или характерных «неустоев», например, в истории европейской музыкальной интонации — в эволюции полутона, в превращении полутона в вводный тон или эволюции тритонности.
Напряжено-взрывчатые элементы европейского лада — вводный тон и тритон — являются своеобразным интонационным противоречием: они максимально неустои, вызывая для слуха наибольшее напряжение и своего рода «распад», и в то же время в них — своя самостоятельная природа, свое «особое качество», как и у консонансов. Знаменитая большая септима (соль-бемоль—фа) в заключительном дуэте «Аиды» Верди не могла бы так пленительно звучать, если бы слух не пережил длительной эволюции полутонностей: к мыслимости столь широкого скачка с ходом от большой септимы вверх к октаве, причем звук фа интонируется столь вокально четко-самостоятельно, как вершина септимы, и в то же время «растет», как вводный тон, к октаве. Только из последующего развития мелодической фразы к заполнению данного скачка ухо «выясняет», что фа все же поддержано, как седьмая ступень, звуком ми-бемоль (шестая ступень), то есть опирается на сексту звукоряда, а последняя на квинту — ре-бемоль. В целом — это одна из изумительных по своей пластической выразительности мелодий. Еще более глубоко проявляется жизнь лада в мелодиях Глинки, например на всем протяжении арии Гориславы («Любви роскошная звезда»), или в гениальном, единственном в своем роде марше Черномора, или в балладе Финна, где при неизменности мелодической посылки жизнь лада развертывается в гармониях и тембрах, как своего рода резонаторах.
В жизни ладов, как отражений интонационного тонуса данной эпохи, выразительная речь интервалов крайне многогранна. В сущности, взаимодействие интервалов и их выразительные качества — чуткий барометр социальной значимости лада, его общественно-познавательной ценности. Лад неразвивающийся, застывший, становится своего рода кастовым явлением: в первобытных культурах его интервалы, из которых строятся характерные полевки, становятся магическими формулами, недоступными непосвященным, или своеобразными интонациями-законами. В Греции возникает целая этическая система-надстройка над ладовыми закономерностями, приводящая к интонационно-ценному и показательному учению об этосе ладов, а, следовательно, и интервалов. Очень любопытна интонационно-выразительная качественность китайской музыки.
Застывание ладовой «интервалики» характерно для культовых интонационных систем, благодаря чему затрудняется и тормозится развитие их мелодических богатств в условиях светских культур, что в нашей стране произошло, например, со знаменным роспевом, да и не только с ним, а со всеми разветвлениями «раскольничьего мелоса». Наоборот, как мы видели, этого не случилось с протестантским хоралом, ибо роль его в истории была более чем прогрессивной.
Интервал, теряющий свою выразительность, в особенности, если он составляет зерно наиболее популярных интонаций, указывает на вырождение данной интонации или на ее опошление («дурная популярность»). Любопытно при этом наблюдать, что в произведениях идейно-значительных, где выразительное качество данного интервала этически иное, чем в его позднейших проявлениях в чувственно-опошленной интонационной сфере, слух безошибочно определяет разницу в его интонационной ценности. Это можно хорошо наблюдать в интонационно-выразительной эволюции вышеупомянутых секст в музыке XIX века у романтиков и психо - реалистов. У нас, в старой России, интересно подмечать качественно различные нюансы в интонации излюбленных интервалов в старинной цыганской музыке и в цыганщине конца века. Не менее интересно наблюдать, как Чайковскому удается подымать этически выразительный уровень некоторых интервалов-интонаций, уже, казалось бы, стертых привычными оборотами бытового романса, и наоборот, как некоторые решительно вульгарные обороты бытовой музыкальной интонации снижают художественную ценность тех или иных моментов даже его симфонической музыки. Все подобного рода явления отмечают выразительную роль интервала, как интонационного барометра эпохи и ее стиля. Наблюдать их не менее интересно, чем эволюцию содержания слов и оборотов речи в языковой интонации и соответственные изменения в фонетике и морфологии.
И в области строительства музыкальных форм в свете интонационной эволюции, наблюдается тенденция к непрерывности звучания — отображение напряженно-непрерывного тонуса человеческой звуко - речи, как основы ее эмоционально-смысловой выразительности. Но всегда и постоянно эта тенденция «конфликтует» с очень яркой другой, идущей от обусловленности музыкального ритма не только процессами выразительно-организованного дыхания, но и «немыми» интонациями! жеста, шага, танцевального движения.
Стопа, с ее основной ямбической или трохеической сменой длительностей, в простейшей своей формулировке играет в подобного рода звуковой архитектонике первенствующую роль и при отделении музыкальной интонации от поэтической в немалой степени содействовала возникновению диктатуры такта с его сильной, ударной первой долей. Понятно поэтому, что вся структурно-зрительная и формально-метрическая архитектоника музыкальных форм в очень широкой степени обусловлена «немыми стимулами», с их внесением в интонационно-непрерывное становление «музыки дыхания» ударной, четкой отмечаемости мерного шага или механически закономерной чередуемости танцевальных па. Асафьев указывает на органичность «взаимоконфликтности» ритмики «немой интонации» с ритмикой выразительного дыхания. Но даже структурное различие между циклической формой сюиты и циклической формой симфонии и в самой сюите между, например, аллемандой и менуэтом настолько показательно и на слух и на глаз, что данная конфликтность проявляет себя наглядно и как конструктивно-ритмическая и как интонационно-выразительная в борьбе между ритмо - формулами механизированных движений, с их мерностью, и ритмо-мелодическим становлением.
Интонационность форм cantus firmus'a и всех им обусловленных монотематических образований, вплоть до взаимодействия вождя и спутника в фуге, вполне понятна: это — стержни, которые направляют воспринимающее сознание в длительностях полифонического становления, и одновременно — смысловые тезисы, четко схватываемые и фиксируемые памятью, обусловливающие протяженность развития.
Чрезвычайно характерны в интонационной эволюции музыкальных форм вариационные формообразования, с их трансформациями темы каждый раз в ином интонационно-выразительном качестве, вплоть до возможности раскрывать эмоционально-смысловое становление темы в историческо - стилевой преемственности или в интонационно-многогранном «расцвечивании» и динамизации эмоционального содержания темы. В этом смысле богатство вариационных форм неисчерпаемо, но, конечно, не может превзойти выразительные возможности непрерывно-логического становления сонатности или симфонических форм.
Тональности, с точки зрения интонационной, являются перемещением данного звуковыразительного тонуса — пребывания в нормах определенной высотности в новый высотный ряд, выше или ниже, более или менее напряженный. Модуляции — техника, приемы этих перемещений. Но модуляция из звукоряда в звукоряд — процесс более интонационно сложный, так как при этом не только происходит переключение данного тонуса в высотно иной ряд, но и иное размещение интервалов. Интонационно экспрессивное значение тональностей тесно связано с их интонационно-тембровой, «красочной» выразительностью; это особенно сказалось в импрессионистской музыке, столь характерной для французской музыкальной культуры с ее давним традиционным культом чистоты и ясности музыкальной интонации, с лозунгом: всё, что написано в нотах, должно быть безупречно слышимо, ибо музыка живет для уха, а не для глаза, и познаваема интеллектом через слух. Ничего лишнего, что не будет слышно, не должно быть в музыкальной записи, будь то интонационно-изысканная фортепианная ткань или сложная оркестровая партитура. И в этом смысле Шопен, Берлиоз, Бизе, Дебюсси «созвучны» в своих интонационных тенденциях, несмотря на стилевые глубокие различия.
Различные степени слышимости определяются и различием в количестве интонируемых голосов: одно-, двух-, трех-, четырех-, пяти - (и т. д.) голосие. С закреплением гомофонно-гармонического стиля четырехголосие стало признаваться за наиболее нормальный состав, обусловливающий полноту (интонационную насыщенность) музыкального движения и его ясность: это преимущество четырехголосия объясняется исчерпывающим количеством выявляемых гармонией необходимейших призвуков, как резонаторов мелодии. Преодоление статики призвуков, обращение их в сопутствующие основной мелодии и в то же время почти самостоятельные мелодические голоса составляет одно из интонационно-стилевых основных качеств гомофонного четырехголосия. Добиться «самодеятельности» внутренних голосов, не заглушая чем-либо «лишним» основной мелодии и не допуская интонационных «случайностей» (например, удвоений или параллелизмов, превращающих четырехголосие в трех - и двухголосие), — в этом заключается своеобразная художественная выразительность четырехголосия, и на этом выработались закономерности или нормы голосоведения данного стиля, в общем сходные во всех учебниках гармонии, но трактуемые в них почти всегда отвлеченно, вне учета интонационной природы данных «правил».
В сущности говоря, гомофония, с ее четырехголосной тканью, с ее четкой конструктивной системой периодов (от танцевально-песенной или куплетной мелодики), с ее ясной симметрией и тонико-доминантной сопряженностью, как основным стимулом «продвижения», определила интонационные формулы, разделяющие и замыкающие становление периодов, так называемые кадансы. Это не значит, что кадансы не существовали до образования гомофонного четырехголосного стиля, но в нем они приобрели конструктивно-интонационную закономерность, устойчивость и, именно, четкость, обобщенность формулы. Они содержат в наиболее сжатом, лаконичном строе существенные признаки лада и тональности, нередко сопутствуемые и мелодически-обобщенной интонацией основного напева или темы (к примеру, конец «Камаринской» Глинки или первой части девятой симфонии Бетховена). Интонационная чуткость в отношении мелодического и гармонического содержания и конструкции кадансов составляет один из характернейших признаков интеллектуально-стильной деятельности, умного мастерства и обнаруживания «личного почерка» композитора (для наблюдения в данном отношении и данной области особенно любопытны Моцарт и Глинка).
ЛИТЕРАТУРА
1. Асафьев Б. В. «Музыкальная форма как процесс», Ленинградское отделение, 1971г.
2. Асафьев Б. В. «Музыкальная форма как процесс» кн. 2-я «Интонация», Музгиз, 1947г.
Похожие работы
... сформулирована и поставлена цель дальнейшей работы. Целью формирующего этапа опытно-экспериментальной работы явилась разработка и апробация методики развития музыкальности у детей младшего дошкольного возраста в процессе восприятия музыки. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 1. Разработать методику развития музыкальности детей экспериментальной группы; ...
... . ЗАКЛЮЧЕНИЕ Результаты проведенного исследования, их обобщение и соответствующая интерпретация позволяют сделать следующие выводы: 1. Историко-педагогический анализ теоретических основ формирования духовной культуры школьников средствами музыкального искусства свидетельствуют о необходимости поиска путей и средств, оптимизирующих формирование духовной культуры школьников. ...
... подростков 13 лет; будут рассмотрены также наиболее эффективные формы и методы, способствующие воспитанию у школьников музыкальной культуры. 2. Исследование уровня музыкально-эстетической культуры подростков 2.1 Психолого-педагогические условия воспитания музыкально-эстетической культуры подростков Приступая к исследованию уровня развития музыкально-эстетической культуры подростков, ...
... , его личных установок. Глава II. Экспериментальные исследования механизмов достижения младшими школьниками катарсиса в музыке. II.1 Цель и методика констатирующего эксперимента. Целью констатирующего эксперимента является выявление уровня сформированности музыкального восприятия у детей младшего школьного возраста. Для реализации данной цели были подобраны следующие методики: 1. «Открой себя ...
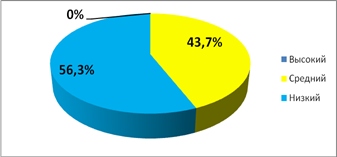
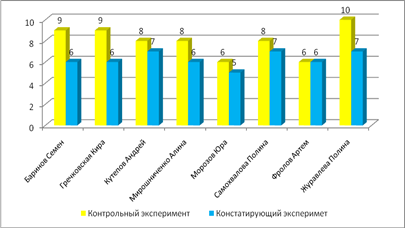
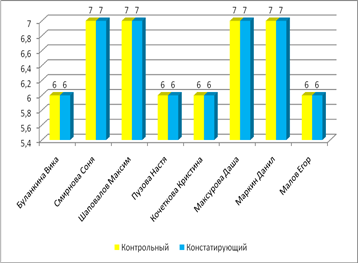
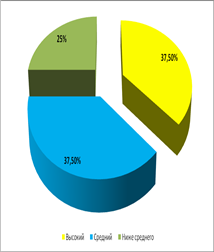
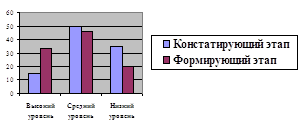
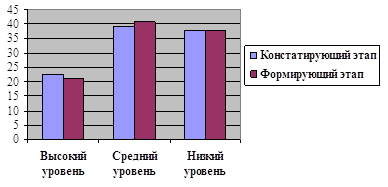
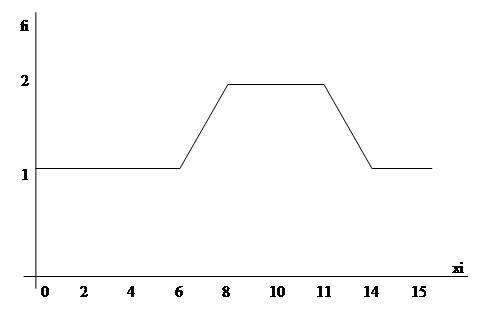
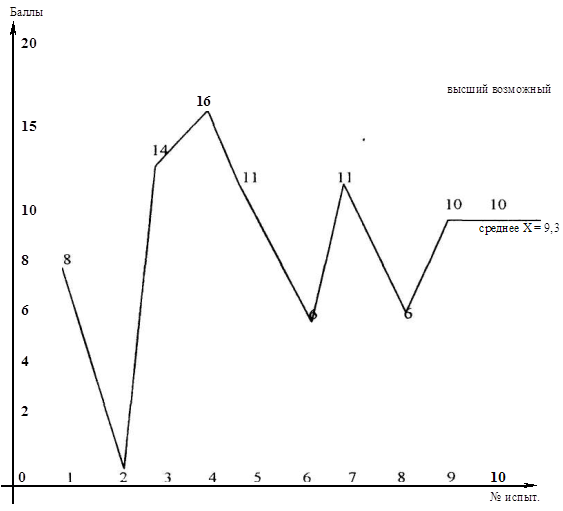
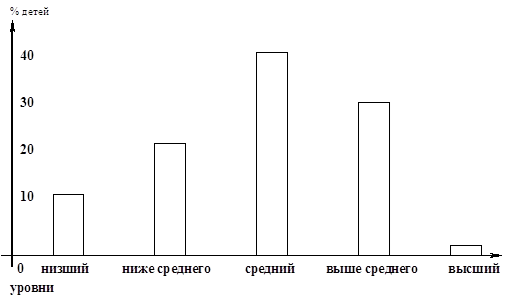
0 комментариев