Навигация
Особенности системы социальных ограничений
2.2. Особенности системы социальных ограничений.
Прежде чем описывать структуру социальных ограничений, целесообразно было бы рассмотреть некоторые особенности системы социальных ограничений в целом. Это рассмотрение послужит введением в авторскую модель социальных ограничений.
В любой системе присутствует её системообразующий фактор (факторы), выполняющий интегративно-управляющую функцию по отношению к системе. Системообразующим фактором системы социальных ограничений, выполняющим главную, социально-ограничительную функцию является, на мой взгляд, воля общества к самосохранению и самоутверждению, или «воля к жизни». Это может показаться банальным, но если эта воля вдруг исчезнет вместе с порождаемыми ею ограничениями, общество неминуемо распадётся и погибнет. В истории имеется достаточно примеров обществ, погибших и распавшихся в результате постепенного снятия присущих им социальных ограничений. В качестве отдалённого примера можно указать на Древний Рим периода империи, а в качестве ближайших можно привести Россию начала 20 века и СССР периода «перестройки», в которых процессы «либерализации» как снятия присущих им социальных ограничений и изменения их структуры привели к довольно быстрому распаду данных социальных систем. Так как большинство обществ не хочет оказаться в ситуации России 1917 и 1991 годов, то они предпочитают сохранять присущую им систему социальных ограничений или изменять её достаточно осторожно. Один из ведущих теоретиков культурно-цивилизационного развития обществ О. Шпенглер писал: «Первая основная тенденция жизни агрессивна и оборонительна: власть и расширение. Вторая основная тенденция – продолжение: секс»(505, s.19). Этот общий тезис «философии жизни» вполне применим и к жизни обществ.
Однако при рассмотрении данного системообразующего фактора нужно учитывать постоянное наличие в обществе следующих двух групп или типов людей: принадлежащих к элитам и не принадлежащим к ним. Этот вопрос был исследован Г. Моска, Р. Михельсом и В. Парето (См. 93). В данной ситуации элиты (олигархии) всегда управляют, а не элита – народные массы всегда им подчиняются. Поэтому воля общества (но не всех его отдельных членов) к самосохранению и самоутверждению является в первую очередь волей к этому правящих элит. Это тем более верно, что именно эти элиты и являются основными потребителями имеющихся в обществе социальных возможностей и благ, распределяющихся в силу социального неравенства по принципу перевёрнутой пирамиды. Именно поэтому, по крайней мере, в теории, которая в данном случае обычно совпадает с практикой, элиты должны быть максимально заинтересованными в сохранении «своей» социальной системы. Правда, на практике мы иногда видим обратное, когда эти элиты разрушают своей деятельностью подконтрольные им общества, как, например, это сделал А. Гитлер со своими соратниками, конечные результаты деятельности которого были прямо противоположны заявленным целям.
Значит ли это, что мы должны признать в социальном организме наличие суицидального фрейдовского «танатоса», как воли к смерти и саморазрушению социальной системы? На мой взгляд такого «танатоса» в обществе не существует. Конечно, различные культуры и цивилизации как наиболее развитые формы социальных систем проходят в ходе своего развития различные фазы (См. 64), стареют и умирают, как это показали Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер и Л. Гумилёв. Но они вовсе не кончают свою жизнь самоубийством и не стремятся сознательно к саморазрушению, хотя могут становиться жертвами внешней агрессии и собственных неудачных авантюр, как в случае гитлеровской Германии. Элита решает в этих случаях тоже далеко не всё – должны быть ещё и те, кто готов исполнять её решения и приказы. Проигрывает же в подобных случаях большинство. Поэтому следует вести речь не о воле общества и его элиты к саморазрушению, а о воле и интересах отдельных социальных групп, желающих улучшить своё положение за счёт разрушения социального целого и деятельности внешних соперников и врагов данного общества, провоцирующих создание в нём своей «пятой колонны». Эти явления хорошо исследованы в литературе посвящённой Второй Мировой войне, разрушению СССР и императорской России (См. 20, 29, 57, 60, 94, 191, 245, 265, 359, 361, 455, 484). Именно эти силы и являются субъектом, инициирующим в обществе деструктивные и суицидальные социальные тенденции. Если рассматривать общество как биологический организм, эти силы можно сравнить с инфекцией или раковыми метастазами. С.Г. Кара-Мурза сравнивает их с жуками Ломехуза – паразитами, живущими в муравейниках, которых муравьи вынуждены кормить и не в состоянии ограничить, так как жуки хорошо освоили их «язык» и выделяют одурманивающие вещества (191, с.13).
Это подтверждает мысль, что главной целью-ценностью системы социальных ограничений является самосохранение, воспроизводство и поддержание функционирования социальной системы. Причём это относится к любой социальной системе, вне зависимости от её культурных качеств, от жестокой тирании до «общества всеобщего благоденствия». Но эта цель осуществляется не ради самой себя или «жизни ради жизни», а для реализации заложенной в каждом обществе его культурной программы. «Пятый закон культурно-исторического движения состоит в том, что период цивилизации каждого типа сравнительно очень короток, истощает силы его и вторично не возвращается. Под периодом цивилизации разумею я время, в течение которого народы, составляющие тип, выйдя из бессознательной чисто этнографической формы быта..., создав, укрепив и оградив свое внешнее существование как самобытных политических единиц… проявляют преимущественно свою духовную деятельность во всех тех направлениях, для которых есть залоги в их духовной природе, не только в отношении науки и искусства, но и в практическом осуществлении своих идеалов правды, свободы, общественного благоустройства и личного благосостояния»(128, с.89), - писал Н.Я. Данилевский.
Исходя из этого, социальные ограничения можно подразделить на позитивные, реализующие главную цель и ценность сохранения общества и негативные – системоразрушающие факторы. Системосохраняющими факторами можно назвать ограничения социального «зла», а системоразрушающими – ограничение социального «добра». Например, ограничение на продажу и употребление наркотиков является системосохраняющим социальным ограничением, подавляющим социальное зло, а допустим, недостаточная эмиссия денег может быть системоразрушающим фактором деструктивным для экономики. Очевидно, что эти социальные ограничения находятся в диалектическом взаимодействии и многие из них помимо этого несут в себе двойственность, являясь одновременно в чём-то вредными, а в чём-то полезными. Например, сохранение догматического марксизма в СССР с одной стороны было системосохраняющим, а с другой – системоразрушающим социальным ограничением. Системосохраняющий потенциал догматизма заключался в том, что в условиях идеократического общества он пресекал ненужные дискуссии, могущие помешать практике. Однако вред от этого догматизма был всё же большим, так как марксизм изначально содержал в себе не просто множество ошибок, а положения прямо блокирующие достижение заявленных в нём целей – построения социализма и коммунизма (См. подр. 88).
Некоторые авторы, например, Б. Мандевиль (о котором, кстати, хорошо отзывался К. Маркс), считали, что ограничение социального зла, социальных пороков является нецелесообразным, так как эти социальные пороки якобы являются моторами не только экономики, но и социального развития вообще (См. 264, 284). Так как то, что традиционно считается в этике злом (пьянство, воровство, жадность, распущенность, эгоизм, расточительность и т.п.) часто полезно, а добро (скромность, миролюбие, нестяжание, бережливость) напротив часто вредно, то Б. Мандевиль предлагает лишь ограничить конкретные проявления этих нравственных начал законодательно. Зло по Мандевилю, допустимо и полезно, главное, чтобы оно не противоречило законодательству, не нарушало его. Близкой позиции в данном вопросе придерживался и Т. Гоббс, считавший несправедливостью лишь нарушение законов и договоров, хотя он не столь откровенен, как Б. Мандевиль (См. 112). В принципе, первоисточником подобной «договорной» этики является Ветхий Завет. Добро по Мандевилю также допустимо, но его следует ограничить законодательно и социокультурно, ибо в отличие от зла оно не является основой социализации человека, а значит, является отклонением от нормы, требующим ограничения, исправления и, возможно, искоренения. Более всего Мандевиль опасается возможного «опрощения» обитателей «человеческого улья» и возвращения их в природно-патриархальное состояние от буржуазно-технократической цивилизации. Позиция Б. Мандевиля наглядно демонстрирует этическое качество оправдываемой им цивилизации, в которой пороки являются основой её развития и которая поэтому органически неспособна к разрешению социальных противоречий и созданию достойных условий жизни для большинства. Концепция Б. Мандевиля служит теоретическим обоснованием и оправданием устойчивого воспроизводства социального зла в современном мире и очень важна для понимания концептуальных основ современной цивилизации.
Но этот пример демонстрирует также и релятивный характер содержания социальных ограничений, их зависимость от общекультурных, концептуальных установок, свойственных данной цивилизации. То, что является добром в одной цивилизации, является злом в другой, поэтому и система позитивных и негативных социальных ограничений для каждой цивилизации содержательно будет своеобразной, что не мешает, однако, той или иной цивилизации абсолютизировать свои ценности и социальные ограничения как общечеловеческие.
Следует также учитывать, что негативные и позитивные социальные ограничения могут быть как обязательными (необходимыми) для сохранения социальной системы, так и произвольными (случайными), обязанными своим существованием субъективизму и волюнтаризму отдельных личностей и групп. При этом личность, вводящая те или иные социальные ограничения, неизбежно оказывается выразителем групповых интересов, иначе её распоряжения никто не будет выполнять. Обязательными для каждого общества будут социальные ограничения, защищающие от разрушения его базовые цели и ценности, а ограничения, затрагивающие конкретные вопросы реализации этих целей и ценностей могут быть относительно произвольными и зависеть от конкретности меняющихся условий и баланса групповых и индивидуальных интересов.
Например, в современном либерально-демократическом обществе утверждается в качестве одной из базовых ценностей принцип плюрализма и свободы слова, который позволяет правящим кругам выявлять разнообразие точек зрения и мнений по каждому вопросу, а затем выбирать и поддерживать наиболее желательные из них. Таким образом, плюрализм и свобода слова в действительности оказываются выгодными в основном элите, так как поддерживаются лишь выгодные ей мнения, а невыгодные замалчиваются, дискредитируются, иногда преследуются. Плюралистам в этой ситуации приходится либо подстраиваться под запросы элиты, либо готовиться к возможным социальным неудачам. Поэтому свобода критики этой системы оборачивается на пользу системе. Обязательным для сохранения такой модели управления является ограничение «антиплюралистов» и попыток сделать какую-либо одну точку зрения господствующей, а не ограничение свободы критики этой системы с разных, конкурирующих позиций, как может показаться на первый взгляд. А отношение к плюралистической оппозиции определяется здесь как раз прагматикой конкретных условий и групповых интересов, так как общество превращается в бесплатного референта элиты, чего нет в условиях антиплюралистичного авторитаризма.
С проблемой позитивных и негативных социальных ограничений тесно связан вопрос о подлинной и ложной свободе. Подлинная свобода ведёт к эволюции общества в целом и его отдельных единиц (людей) в частности в смысле их духовной развитости и реализации их творческих и психофизических способностей во всём их многообразии, как врождённых, так и социально приобретённых. «Только активно проявляя себя, вступая в связь с иными деятелями и преодолевая «сопротивление материалов», деятель может активно осуществлять свою свободу. Неосуществлённая же свобода диалектически превращается в рабство… Она означает творческое искание новых путей и возможностей»(233, с.142), - писал С.А. Левицкий.
Ложная свобода (лжесвобода) ведёт общество в целом и отдельных людей к деградации, ослаблению их способностей и творческих сил. Конкретные направления этого развития или деградации зависят от общих ценностно-целевых установок различных цивилизаций, поэтому могут различаться. Тем не менее, сами эти способности, служащие основой цивилизационного развития являются вполне объективным фактором. Их рост должен сопровождаться и духовным, нравственным развитием, чтобы они не были обращены во зло. Поэтому свобода развития и творческой реализации этих способностей является подлинной свободой, а, допустим, свобода курения табака или дезинформации в СМИ является лжесвободой, ведущей общество и личность к деградации. Х. Ленк (234) и другие авторы исходя из обстоятельств современного общества, когда у многих появляется достаточное количество свободного времени и средств, видели в духовной и творческой деятельности также и практически единственное спасение от безделья, деградационно-паразитарных форм досуга и сопутствующей им деградации. В качестве примера описания реализации лжесвободы можно привести концепцию «Общества спектакля» Г. Дебора, в котором подлинная жизнь и свобода подменяются их театрализованно-фальсифицированными суррогатами. «Спектакль есть капитал на той стадии накопления, когда он становится образом…Спектакль – это не совокупность образов, но социальные отношения между людьми, опосредованные образами… Спектакль… действует через… дефрагментацию тотальности протеста и подменяющий реальность симуляцией… последующих фальш-синтезов… Фантазия уничтожается, свобода перелицовывается в дурную бесконечность потребления, будучи пойманным в ловушку каковой человек становится рабом скуки как современной формы социального контроля… Стратегическая цель функционирования спектакля – продуцирование у его жертв забвения их собственного порабощения; радикальное средство поддержания этого забвения в случаях возникновения особо интенсивных форм протеста – фальсификация самого импульса протеста: «Господствующая идеология низводит до уровня банальности [направленные против неё] субверсивные изобретения и затем, стерилизовав их, распространяет [их уже как товар] в избытке»(131, с.180), - считал Г. Дебор.
«Европейское общество не заинтересовано в развитии человека. С этой точки зрения европейская цивилизация является системой самоподдерживающихся социальных процессов, которая паразитирует на духовном и физическом потенциале человека как вида… Подавление наиболее развитых своих членов – основной способ существования европейского общества… В тех сферах общества, в тех странах и социальных структурах, где подавлять уже некого, общественная жизнь деградирует и угасает»(59, с.182), - считает белорусский психолог В.И. Бородкин. Социально ограничиваться могут различные способности и проявления человека или группы: его мышление, речь, чувства, воля, предметная практическая деятельность, то есть практически весь спектр его потенциальных (которые не выявляются и не развиваются) и актуальных (которые остаются невостребованными, запрещаются и подавляются) качеств и свойств. Наиболее свободен человек в своём мышлении и публично не выражаемых чувствах, менее свободен в речи и наименее свободен в практической деятельности, являющейся основным объектом социальных и природных ограничений. Как справедливо отмечал Н.А. Бердяев, свобода закономерно убывает по мере погружения деятеля в материю.
Принцип разделения свободы на подлинную и мнимую методологически является очень важным, так как он способствует выявлению и критике многочисленных лжесвобод широко распространившихся в современном обществе и смешанных с подлинными свободами. Исходя из этого методологического принципа, можно понять, что известная формула «запрещено всё, что не разрешено» не означает обязательного торжества несвободы, так как могут быть запрещены именно проявления лжесвободы, а формула «разрешено всё, что не запрещено» не обязательно даёт больше свободы по сравнению с предыдущей, ибо это разрешение не различает свободы и лжесвободы, а запрещены могут быть как раз проявления подлинной свободы.
Подлинная свобода составляет диалектическую пару с позитивными социальными ограничениями, а лжесвобода – оборотная сторона негативных социальных ограничений, причём если во внутреннем взаимодействии этих диалектических пар преобладает гармония, то во взаимодействии одной пары с другой преобладает конфликт. Конфликтующие пары ограничений-свобод стремятся к взаимному вытеснению, их отношения антиномичны. Лжесвободы неизбежно подавляют и вытесняют подлинные свободы и наоборот. Чем шире распространяется провоцируемая лжесвободой деградация, тем уже становится поле развития и прогресса.
С реализацией позитивных и негативных социальных ограничений тесно связана проблема взаимодействия личности и общества. В обществах построенных на основе низших рассудочных категорий система социальных ограничений устроена так, что она либо подавляет личность в угоду обществу (коллективу), либо подавляет права и интересы обществ (коллективов) в угоду индивидуалистическому своеволию отдельных лиц, как это имеет место в либеральных доктринах и осуществляется на практике в ходе глобализации, разрушающей суверенитеты государств и национально-культурную идентичность народов (См. подр. 274). «Демократия неблагоприятна появлению сильных, ярких, творческих личностей, она создает нивелирующую общественную среду, которая стремится целиком поглотить личность и подчинить ее себе»(47, с.169), - писал Н.А. Бердяев.
В этом проявляется «безумие рационализма» (С.А. Левицкий). «Наша эпоха – эпоха рационалистических утопий, за нарисованным фасадом которых скрывается разрушительный хаос безумия. Технократия, этатизм, коммунизм – все эти и многие им подобные плоды современности по-разному грешат «безумием рационализма». Всякая утопия при попытке претворения ее в действительность мстит за себя насилием над действительностью…»(233, с.335), - писал С.А. Левицкий. Эпоха рационалистических утопий не ушла в прошлое, в качестве современных её выражений можно привести теорию «холототехнодемократии» М. Бунге (28, с.94) или глобализацию, заставляющую вспомнить о «мировой революции», но на этот раз уже не пролетарской, а буржуазной.
Для рационалистического безумия по С.А. Левицкому характерны рационализм средств при иррационализме (неразумности) целей, машинизация, представляющая окарикатуренную и материализованную рассудочность, наукообразность, слепота к глубинным смыслам мира и души, утилитаризм, прагматизм, стандартизация, культ обыденности и банальности, стихийный материализм и атеизм. Такой рассудок при создании системы социальных ограничений не способен разрешить антиномию личности и общества и колеблется подобно маятнику механических часов, то налево, то направо: от марксизма и кейнсианства к либерализму и монетаризму и обратно. Подобный двухтактный механизм закреплён в политической системе США.
Созданные механистическим рассудком системы социальных ограничений являются негативными, так как ведут либо к деградации, а порой и уничтожению личности, как это было в тоталитарных системах, либо к деградации общества, распадающегося на враждебных друг другу атомарных индивидов подчинённых государству – «Левиафану», как это описал Т. Гоббс.
Позитивная система социальных ограничений и свобод, напротив должна вести к сохранению и развитию как личности так и общества. Подобные идеи активно разрабатывались в 20 веке в философии русского зарубежья Н.Н. Алексеевым, Н.А. Бердяевым, Б.П. Вышеславцевым, Н.О. Лосским, С.А. Левицким, Н.С. Трубецким, С.Л. Франком и другими авторами. «В нахождении должной гармонии между «я» и «мы» заключается задача истинно понятого приспособления личности к обществу. Такому гармоничному отношению между личностью и обществом учит персоналистический солидаризм, который утверждает самоценность личности при императиве солидаризации ее с обществом путем служения личности и общества сверхличным и сверхсоциальным ценностям и путем солидаризации с такими сообществами»(233, с.183). «Либерализм создал миф об абсолютно суверенной личности, миф, который разбивается в прах при столкновении с проснувшейся общественной стихией. Но еще хуже коллективистский миф о человеке как только о члене коллектива. Ибо этот миф способствует архаизации и одичанию подсознания – частичному возврату личности в сферу непреображенного «коллективного подсознания», приводя, таким образом, к духовному регрессу.
От обеих этих крайностей свободен персонализм, учащий об автономности (но не абсолютности) личности, учитывающий всю силу общественной стихии, но зовущий к преображению как личного, так и общественного подсознания через свободное служение личности сверхличным и сверхобщественным ценностям истины, добра и красоты»(233, с.184-185), - писал С.А. Левицкий.
В качестве примера концептуальной основы построения системы социальных ограничений при подобном подходе могут быть представлены идеи С.Л. Франка. «Можно формулировать общее положение: в плане длительного и прочного бытия уровень общественного порядка стоит в функциональной зависимости от нравственного уровня людей, его составляющих» (420, с.240). «Никогда не следует забывать, что непосредственные законодательные меры против всякого зла, - например против пороков (пьянства, разврата, азартных игр) или против проявления жестокости, эгоизма, эксплуатации, несправедливости – суть по …методу своего действия запрещения или, во всяком случае, принуждения. Это суть всегда меры, извне обуздывающие человеческую волю тем, что преграждает ей путь к действию на жизнь, либо же тем, что насильно принуждает ее к определенному образу действия… При этом злая воля или вредные для общества побуждения не устраняются, не искореняются по существу, а только сдерживаются в своих проявлениях, как бы загоняются внутрь. Но такого рода принуждение имеет некие имманентные пределы своей эффективности; и эти пределы суть тем самым пределы всякого автоматического государственно-правового совершенствования жизни. Принуждение необходимо для обуздания греховной человеческой воли, для ограждения жизни от вредных ее последствий. Однако, попытка направлять всю жизнь с помощью принуждения приводит не только к рабству, но и к неизбежному при нем бунту злых сил, которые находят всегда новые, неожиданные пути для своего проявления» (420, с.241-242), - писал С.Л. Франк.
Таким образом, основой социальных ограничений направленных на совершенствование человека и общества этот мыслитель справедливо видел внутренние, религиозно-этические ограничения, внешние, государственно-правовые ограничения для него вторичны. Внутренние ограничения личности видятся в данном случае как сплав надсоциальных и социальных ограничений.
Поднятая тема внутренних и внешних ограничений личности возвращает нас к важному вопросу о субъекте и объекте социальных ограничений. Вопрос этот непростой. Как было показано выше, религиозная этика апеллирует к сверхсоциальным ценностям. «Общество является лишь школой служения; университетом же служения является над-общественная сфера высших ценностей культуры»(233, с.185), - считал С.А. Левицкий. В этом утверждении есть известное противоречие, так как культура является социальным явлением даже в своих высших ценностях, хотя религиозные ценности вообще могут быть и внесоциальными. Но, даже признав внесоциальный источник религиозных и этических ценностей, мы должны будем согласиться с тем, что они реализуются и применяются именно в социальной среде. Поэтому эти ценности правильнее было бы назвать смешанными, социально-надсоциальными. Признать полностью имманентный, социальный характер этих ценностей как это делают многие современные философы нельзя, ибо в этом случае они приобретут релятивный, неустойчивый характер и превратятся в объекты манипуляций социальных авторитетов. Эти ценности можно представить в качестве независимого «субъекта» социально-надсоциальных ограничений. Противостоящим ему объектом оказывается личность и общество.
Согласно О. Шпенглеру, основным свойством жизни является стремление к преодолению всех и всяческих ограничений и границ. Жизнь хочет уничтожить все границы, к тому же любое единичное её проявление стремится слиться с общим и всеобщим, преодолев свою индивидуальную ограниченность. Приняв этот тезис, мы начинаем понимать, почему психологически ограничение свободы воспринимается нередко негативно, и почему мы вообще можем ощущать свою ограниченность. Вероятно, будь ограниченность изначально присуща жизни, какое-либо её ощущение и осознание, как и стремление к свободе были бы невозможны. Хорошо известно и противоположное психологическое состояние – страх свободы, ксенофобия, которые можно назвать волей к ограниченности, в том числе и социальной. Эта воля является одним из источников создания социальных ограничений.
Для общества субъектами внешних социальных ограничений могут выступать другие, конкурирующие (сотрудничающие) с ним общества или общества более высокого уровня, фрагментом которых является данное общество. Например, государства на международной арене могут ограничиваться другими государствами или международными организациями, осуществляющими надгосударственное управление как органы союзов государств или глобальных управленческих структур. Сходная ситуация существует и на уровне взаимодействия отдельных личностей и личностей с коллективами. Для личности субъектами социальных ограничений выступают другие личности и коллективы, причём тем более активно, чем более эгоистично личность отстаивает собственные интересы. На это обратил внимание А. Макинтайр. «С одной стороны, люди стремятся сохранить автономию и суверенность, приписывая им ценность. В ней отражено несогласие индивидов с тем, чтобы их трактовали как объекты манипуляции. С другой стороны, люди преследуют свои частные интересы и связанные с ними вкусы. Такое поведение возможно только в рамках манипулятивных отношений, которых индивиды стремятся избежать. Поэтому поведение абсолютного большинства индивидов в современном обществе не может быть последовательным» (Цит. по 260, с.13). Здесь мы сталкиваемся с одним из социально-ограничительных парадоксов, когда чем более активно человек стремится к независимости и свободе, тем более он ограничивается окружающими в силу несоответствия его свободы, свободе окружающих, которую он сам ограничивает. Выход из этого индивидуалистического тупика состоит в согласовании взаимных интересов путём взаимных уступок.
Наибольшие возможности для установления выгодных им систем социальных ограничений получают те группы и личности, которые либо обладают дающими им власть социальными ресурсами в виде денег, собственности, должностей, полномочий, привилегий, дипломов, знаний, умений и т.п., либо те, кто находится в большинстве и чьи желания, мнения, установки, привычки, являются, поэтому господствующими. Таким образом, основными субъектами социальных ограничений в обществе оказываются «элита» и «большинство», а объектами – «неэлита» и «меньшинство». Эти субъекты социальных ограничений в зависимости от уровня их нравственного и психофизического развития могут устанавливать как системы негативных, так и системы позитивных социальных ограничений. В худшем случае возникает ситуация описанная Ф. Ницше: «Чернь сверху, чернь снизу! Что значит сегодня бедный и богатый! Эту разницу забыл я, - и бежал я все дальше и дальше, пока я не пришел к этим коровам» (306-Т.2, с.197). В этом случае субъектами негативных социальных ограничений и творцами лжесвободы выступают одновременно и элита (точнее, псевдоэлита), для которой духовное и психофизическое развитие стоящих вне их корпорации людей является угрозой их власти и привилегиям, и косные массы, привыкшие к бездумно-инертному существованию.
Подобные псевдоэлиты естественно заинтересованы в сокрытии субъекта социальных ограничений, выступающего в качестве одного из проявлений субъекта управления. В этих целях создаётся соответствующая научная мифология, разрабатывающая два диаметрально противоположных мифа. В случае первого мифа утверждается наличие в обществе незыблемых законов социального развития, как, например, в марксизме, предполагающих обязательный переход всех обществ от феодализма к капитализму, от глобального Востока к глобальному Западу и т.п. В этом случае реальный субъект социальных ограничений может и не скрываться, но он перекладывает всю ответственность за свою деятельность на «объективные» законы и процессы, выразителем которых он якобы является.
Другая мифология напротив утверждает отсутствие каких-либо закономерностей общественного развития, как, например, К. Поппер. Так как в этом случае мир представляется набором хаотических случайностей, будущее состояние которых непредсказуемо и неизвестно, то какая-либо целерациональная, в том числе управленческая деятельность, оказывается невозможной и бессмысленной по причине не гарантированности её результата. Субъекта социальных ограничений в этой картине мира не существует, так как все социальные ограничения возникают случайно и сами по себе и так же исчезают. Исходя из подобных представлений, А. Макинтайр отрицает наличие какого-либо профессионального управленческого знания. Бюрократия, по его мнению, вообще ничем не управляет, осуществляя лишь имитацию этой деятельности (См. 260). На мой взгляд, эмпирический социальный опыт не подтверждает этого представления. Хотя бюрократы действительно не всесильны и многие их затеи не удаются, а распоряжения и законы не выполняются, факты систематического выполнения многих их распоряжений опровергают тезис об их полной неспособности к управленческой деятельности.
Более адекватной мне представляется следующая модель. Существует более или менее обширное множество вариантов или путей развития, детерминированных по своему характеру, направлению и результату. Свобода заключается в возможности выбора того или иного пути и возможности изменения этого выбора равнозначной выбору иного пути в любые или определённые моменты времени и пространства. В этом случае роль субъекта социальных ограничений заключается в постановке объекта на тот или иной путь и лишении возможности его смены. Управление здесь возможно, хотя и не обязательно ведёт к желаемому результату. Возможно и сокрытие субъекта социальных ограничений, по крайней мере, от сознания объекта. Элементарным примером этой схемы являются регулярные выборные процедуры в демократической системе управления.
Рассмотрев некоторые особенности системы социальных ограничений и учитывая их в дальнейшем, можно перейти к рассмотрению основных структурных компонентов данной системы.
2.3. Структура социальных ограничений. Структурные компоненты системы социальных ограничений являются формами проявления системообразующего фактора социальных ограничений – воли общества к самосохранению и самоутверждению на разных уровнях культуры. Главным, с содержательной точки зрения, атрибутом системы социальных ограничений является концепция реализуемого этим обществом социокультурного проекта, содержащая его главные ценностно-целевые установки и константы, в особенностях которых концепция и находит своё выражение. Эта концепция имеет статико-метафизический характер, так как в случае её изменения социокультурный проект не будет реализован. Уровень концептуальных социальных ограничений является высшим и одновременно наиболее скрытым уровнем социальных ограничений. Многие мыслители предпринимали попытки выявления концептуальных основ различных цивилизаций. Например, И.Л. Солоневич попытался выявить эти основы у России, а так как выявленное им показывало преимущество русской цивилизации над западной и многими другими, то его работы стали замалчиваться. Сходные попытки выявления «русской идеи» как цивилизационной концепции предприняли Н.А. Бердяев, С.Л. Франк и другие авторы. В настоящее время актуальным является выявление концепции Западной цивилизации, принудительно навязывающей свою систему социальных ограничений всему миру. В качестве примеров существования подобных концепций можно привести различные религии, в которых эти концепции содержатся имплицитно, поэтому их выявление требует определённой аналитико-синтетической и герменевтической работы. Такие различные концепции жизнеустройства можно вычленить в Ветхом и Новом Заветах Библии, в Коране, Законах Ману, священных текстах других религий. В качестве примера попытки вычленения подобной концепции можно привести монографию В.Г. Тахтамышева «Библейская идеология: образ и реальность мира». «Завершение формирования корпуса священного текста свидетельствовало о том, что локальная цивилизация завершила процесс своего осознания и дальнейший процесс состоит в полном проникновении учения в общественную реальность»(385, с.33), - писал В.Г. Тахтамышев. Конечно, эта концепция не обязательно носит религиозный характер. Так, библейский текст «своё содержание… выражает в религиозной форме. Хотя эта форма и противостоит религиозному догматизму, всё же последний примиряется с ней и признаёт её в качестве своей. Будучи признанной религиозным сознанием и оказывая разрушающее воздействие на него (которое последним часто не осознаётся), Библия является уникальным средством управления религиозным сознанием и удержания его в позитивных для общественного целого рамках»(385, с.35), - отмечал В.Г. Тахтамышев.Как видно из данной цитаты, по небезосновательному мнению В.Г. Тахтамышева, заложенная в основу Библии концепция и выражающая её идеология носит нерелигиозный характер. Вообще, вопрос о границах религиозных и нерелигиозных (светских) учений и идеологий является спорным. Например, Р. Эпперсон полагает, что религией является светский гуманизм, приводя в качестве одного из аргументов решение Верховного Суда США: «суд постановил: «Среди религий страны, которые не учат тому, что обычно рассматривается как вера в существование Бога – буддизм, даосизм, этическая культура, Светский гуманизм и другие»(484, с.420). Р. Генон полагал, что существует всего три религии: христианство, иудаизм, ислам и множество метафизических систем. Нередко светские идеологии подобные марксизму причислялись к псевдорелигиям. Однако в любом случае различие являющихся основой идеологий религиозных и светских концепций порождает разнообразие исходящих из них систем социальных ограничений.
Идеология, в отличие от концепции, носящей предельно абстрактный характер, является приспособлением концепции к условиям внешней – природной и социальной среды и особенностям подвергающихся идеологической обработке людей. Она имеет менее абстрактный и более детализированный характер по сравнению с концепцией и соответственно более подвижна и подвержена изменениям. Субъектом-носителем идеологии выступают рационально осознающие основы господствующей концепции идеологи. «Только подавляющее меньшинство членов общества способно действительно рационально и в полном объеме постичь и осмыслить логику «правящих идей», их взаимосвязь, их гармонию. Массам же эта «элита» передает определенные готовые нормативы, выведенные из «правящей идеологии» (478-№3, с.1), - отмечалось в журнале «Элементы». Идеология находит своё выражение в системе специфических мировоззренческих представлений, способствующих реализации данной концепции. Например, в марксизме концептуальной цели пролетарской революции соответствовало мировоззренческо-идеологическое представление об огромной роли ручного труда в становлении и развитии человека. Так как буржуазия не была занята ручным трудом, то получалось, что она дальше отстояла от человеческого архетипа, чем пролетариат, была ближе к обезьяне и поэтому господствовала необоснованно. В кальвинизме по аналогичным причинам возникло представление о божественной благодати, якобы осеняющей богатых.
Одним из проявлений первичных форм идеологии является язык, который определяет, что и как вообще можно высказать и описать. Социальные ограничения языка проявляются в его грамматике, фонетике, орфографии, синтаксисе, пунктуации, количестве букв в алфавите и прочих особенностях. Сложно согласиться с идеей В. фон Гумбольдта о том, что «мышление без языка попросту невозможно»(119, с.408), что границы языка определяют границы мышления, как полагали некоторые позитивисты, не учитывая возможностей внеязыкового, образного мышления. Однако то, что невозможно или затруднительно выразить в существующем языке так и остаётся в форме туманных интуиций, мимолётных образов, неясных чувств, эмоций и томлений, то есть фактически вытесняется за рамки культуры и общества, оставаясь невыраженной частью внутреннего мира людей. Таким образом, язык как первичная форма идеологии является матрицей возможных для выражения состояний и чувств, определяющей их форму, взаимосвязи и комбинации. Что-то при этом получает возможность выражения, а что-то не получает, не случайно многие философы говорили о нехватке языка, о том, что у философии нет своего языка и она по необходимости вынуждена косноязычно говорить на чужом (Г.-Г. Гадамер).
В России широкомасштабная секуляризация языка осуществлялась в 18 веке, начиная с правления Петра I. Ф. Прокопович рассматривал церковно-славянский язык как непросвещённый и препятствующий просвещению, как язык ложного знания, стоящий на пути знания подлинного, как язык непонятный и мешающий пониманию (См. 31). Это показывает, что идеология Просвещения требовала для своего внедрения адекватного ей языка, который бы в отличие от церковно-славянского не мешал её усвоению.
Язык как матрица возможностей развития внутренних сил человека и система первичного моделирования мировоззрения, хотя бы посредством акцентуации и связывания различных проявлений мира, является очень важной формой социальных ограничений, предопределяющей возможности выражения внутренних сил человека и акцентирующей (скрывающей) те или иные аспекты мироздания. Эти возможности и ограничения языка являются, по сути, концептуально предопределёнными, поэтому любая оригинальная концепция пытается выстроить свой язык, а иногда и навязать его обладателям других языков.
Языковые социальные ограничения, являясь одной из базовых, первичных их форм буквально пронизывают всю культуру и все элементы системы социальных ограничений.
Другой формой проявления идеологии, причём зависимой от языка, является этика. Этика определяет негативное и позитивное в действиях и мышлении людей и предписывает, как им следует себя вести в той или иной ситуации. Этика определяет основные морально-нравственные установки людей живущих в определённой культуре и находит своё выражение в содержании и структуре моральных норм. Этические социальные ограничения могут быть более примитивными, писанными, как 10 заповедей Моисея, а могут иметь и более сложный, не фиксированный характер. В последнем случае этические ограничения задаются в каждом конкретном случае исходя из ценностно-целевых установок соответствующей концепции (идеологии) и не поддаются формальной рационализации подобно механистическим нормам Ветхого Завета.
Этика как одна из форм идеологии является своеобразной и изменчивой в различных культурах и идеологиях. Так, в марксистской этике владение частной собственностью и основанная на ней эксплуатация человека человеком считаются аморальными, а для Т. Гоббса наоборот, частная собственность – стержень свободы человека, а эксплуатация такое же естественное явление как война всех против всех. По мнению одного из современных теоретиков либерализма Р. Дворкина, вопрос целей человеческой жизни и благой жизни для человека вообще не разрешимы, а правила морали и права не выводятся и не обосновываются в терминах более фундаментальной концепции блага для человека. Как отмечает А. Макинтайр, в этой позиции Р. Дворкина проявилась особенность современной этики в целом (См. 263, с.163-165). Это показывает, что добро и зло для либеральной этики равноправны, то есть либерализм субстанционально аморален. Отсюда закономерно вытекает пропаганда терпимости к наркомании, гомосексуализму и прочим порокам, закономерно сочетающаяся с попытками привлечения к суду активных оппонентов либеральной идеологии. Последними аргументами в этом случае оказываются сила и манипулятивное убеждение. Поэтому, как констатирует в своём исследовании, посвящённом этической истории Запада А. Макинтайр, сегодня господствующей стала этика своевольного индивидуалистического эмотивизма, ограниченного лишь эмотивизмом окружающих. Подобная ситуация свидетельствует о распаде единого этического пространства заражённых этим явлением обществ, что в известной мере ограничивает его членов.
Этические ограничения, носящие в общем внутренний, рекомендательный характер воплощаются в правовых ограничениях, имеющих уже обязательный характер. В отличие от этики, право имеет более механистичный и изменчивый характер, подобно всем низшим, вторичным социальным ограничениям по сравнению с высшими, первичными. Правовые ограничения часто запутаны, двусмысленны, противоречивы и не способны охватить собой все явления жизни, а потому нуждаются в корпусе истолкователей (юристов) и применителей (судей, чиновников и т.п.), которые при конкретном применении тех или иных правовых норм руководствуются в конечном итоге именно этическими установками, в том числе и маскируемыми под «интересы» и «потребности». Этические социальные ограничения как представления о хорошем и плохом, допустимом и недопустимом, должном и не должном в очень значительной степени детерминируют не только правовые, но и экономические, политико-управленческие, научно-технические, образовательно-информационные, военно-силовые сферы и отношения общества. Значение этических установок и ограничений хорошо показано в работе М. Вебера «Протестантская этика и дух капитализма» (71).
Эстетика как социальные представления о прекрасном и безобразном, изображаемом и не изображаемом, гармоничном и дисгармоничном также является одной из базовых форм идеологии. Эстетические нормы очень важны для материальной культуры в целом, а не только для искусства, ибо, в конечном счете, именно они определяют облик и формы большинства изделий материальной культуры, вид наших городов, одежды, всего рукотворного мира. «Шапка-мурмолка, кепи и тому подобные вещи гораздо важнее, чем вы думаете; внешние формы быта, одежды, обряды, обычаи, моды, все эти разности и оттенки общественной эстетики… вовсе не причуда, не вздор, не чисто «внешние вещи», как говорят глупцы, нет, они суть неизбежные последствия, органически вытекающие из перемен в нашем внутреннем мире, это неизбежные пластические символы идеалов, внутри нас созревших или готовых созреть…»(240, с.168), - писал К.Н. Леонтьев.
Также как этические социальные ограничения, многие эстетические нормы принимаются большинством людей бессознательно. Как замечает Р.А. Уилсон, мало кто захочет есть из квадратной тарелки, но как можно добавить, мало кто и задумывается, почему тарелки круглые. Эти социальные ограничения наиболее значимы в искусстве и нашли свое выражение в представлениях о прекрасном и различных канонах художественного творчества.
Эстетические нормы также отличаются широким разнообразием, «цветущей сложностью» среди разных культур. В иудейской и исламской культурах, например, запрещено изображение человека и животных, так это якобы является попыткой узурпацией божественного права на творение живого и недостойным его копированием. В противовес этому в этих культурах получили развитие геометрические и растительные орнаменты. Подобные запреты на изображение человека и животных является типичным социально эстетическим ограничением имеющим, однако, этический источник, так как изображать живое – это в господствующих в этих обществах религиях грех. Если попытаться выявить концептуальные основы этого запрета, то можно предположить, что его негативной основой была цель подавить образное мышление у данной группы людей, а позитивной – развить у них в противовес абстрактно-логическое мышление и восприятие или, допустим, отвлечь их от внешнего мира и обернуть к миру внутреннему.
У одного из индейских племён из джунглей Амазонии всем, достигшим определённого возраста членам племени, подрезали нижнюю губу и вставляли в надрез особую дощечку; у бирманцев считалось красивым вытягивать у женщин шею посредством металлических колец; в средневековом Китае у женщин красивыми считались маленькие ступни, для чего их с детства туго пеленали, хотя ходить потом было неудобно. В Западной цивилизации эстетические формы социальной незрелости и глупости выражаются в пирсинге, некоторых татуировках, размах которых вынуждает европейских законодателей принимать ограничительные меры. Пирсинг является типичным проявлением этико-эстетической лжесвободы, ведущей к психофизической деградации человека. Как видно, не все «древние заботились о силе и развитии человека как такового, новые – о его благополучии, его имуществе и способности к приобретению дохода» (119, с.28). К.А. Свасьян в своей работе, посвящённой становлению европейской науки, показывает взаимосвязь гносеологических и эстетических ограничений и норм. «Идеал познавательной чистоты, взыскуемый классической эпохой, странным образом уживался с каким-то свирепым культом телесных неопрятностей»(367, с.210). Так, от «короля-Солнца» Людовика XIV, по свидетельству одной придворной дамы, пахло, как от падали, а стены парижских домов, не исключая и королевского дворца, были облеплены грязью, улицы представляли собой сточные канавы. По свидетельству И.Л. Солоневича, при французском дворе на стол ставилась тарелочка для убитых вшей, и ещё в начале 19 века парижане бойкотировали спектакли Шекспира за платок Дездемоны, полагая, что сморкаться следует на землю или пол.
К сожалению, многие эстетические ограничения (и свободы) являются по сути ложными, не ведущими к развитию человека. Подлинные эстетические ограничения должны быть природно и человеко соразмерными, подавлять и вытеснять всё уродливое, извращенное, патологическое и безобразное.
Фактологический и исторический материал, описывающий историю эстетических социальных ограничений, содержится в соответствующей исторической и культурологической литературе (См. напр. 9, 107, 215, 392). При его осмыслении необходимо обязательно помнить, что эстетические ограничения и свободы являются именно отражением определённой идеологии, как производного социокультурной концепции жизнеустройства. В этом смысле деидеологизация, дерегулирование в культуре и искусстве являются мифами. Свобода эстетического самовыражения ограничена возможностями социального успеха, определяемого господствующими социальными группами и массами потребителей, чьи вкусы формируются теми же господствующими группами через СМИ. Если всё и допускается, то далеко не всё поддерживается, неподержанное же обречено на безвестность, прозябание и, в конечном итоге, вымирание. Поэтому, часто разумнее согласиться на позитивные социальные ограничения, чем упиваться лжесвободой.
«Самое главное в идеократии – требование основывать общественные и государственные институты на идеалистических традициях, ставить этику и эстетику над прагматизмом и соображениями технической эффективности, утверждать героические идеалы над соображениями комфорта, обогащения, безопасности, легитимизировать превосходство героического типа над типом торгашеским...» (Цит. по 399, с.19), – писал А.Г. Дугин. Не похоже ли это на тоталитаризм? Порицаемый многими тоталитаризм 20 века не ставил подобных целей даже в теории, не говоря о практике.
Четвёртой формой первичных социальных ограничений являются ограничения «онтологическо-гносеологического» характера. В светской культуре эти ограничения и свободы задаются в соответствующих разделах философии, в религиозных обществах эти вопросы решаются в священных писаниях и мифах: так в Библии содержится соответствующая книга, которая так и называется – Бытие. Эта форма идеологии отвечает на вопросы: «что вообще есть в нашем мире (и чего нет)» и «как можно (или нельзя) познавать (и изменять) это существующее». Она находит своё выражение в системе категорий, понятий и образов, отражающих сложные картины мироздания. Эта группа социальных ограничений очень важна, так как она не только задаёт парадигмальные основания для науки и техники, но и во многом предопределяет мировоззрение, представления об окружающем мире, исходя из которых действует человек. Насколько эти представления важны, хорошо иллюстрирует история Средних веков и последующих столетий. Так, если полагать, что земля плоская, то незачем плыть на Запад, чтобы попасть в Индию, как это сделал Колумб, а, следовательно, и открыть Америку будет невозможно. Если полагать, подобно И. Ньютону и Г. Галилею что Вселенная – это механизм, то и политическую систему общества следует перестроить в механистическом духе, заполнить мир машинами, а человека, если и не превратить в машину, то сделать обслуживающим персоналом и сырьём для неё. Если Вселенная бесконечна, как полагают сегодня многие вопреки Аристотелю, то можно безоглядно её переделывать, потреблять и разрушать.
«Наука сталкивается всегда только с тем, что допущено в качестве доступного ей предмета её способом представления» (428, с. 319), – писал М. Хайдеггер. Развитие различных научных представлений описано в известной работе Т. Куна «Структура научных революций»(220), из российских исследований этого вопроса можно выделить, монографию А.Г. Дугина (См. 153). «Вульгаризация классической науки, в огромной мере сформировала клише современной ментальности. Но качественная мутация науки в конце XX века не отразилась симметрично на соответствующем изменении общераспространенных ментальных клише. В этом мы сталкиваемся с любопытной асимметрией парадигм. Влияние научной мифологии на массы оказалось более устойчивым, чем основания этой мифологии. И новейшая наука, таким образом, пришла в определенное противоречие с нормативными гносеологическими установками масс» (153, с. 362), – писал А.Г. Дугин. Эти высказывания свидетельствуют о парадигмальной ограниченности научных знаний и методологий и о далеко не простом взаимодействии научного и обывательского представлений о мире, которые сегодня пришли в конфликт.
«…Мы вынуждены также признать, отмечал А.Г. Дугин, - что человек превратился из обезьяны в человека только в эпоху Просвещения. Как ни странно это звучит, но аксиомы современной философской антропологии сложились именно на заре Нового времени, и в качестве эталона человека был взят именно человек этого периода. Правда, сразу же вслед за этим такая антропологическая установка была признана всеобщей и экстраполирована на всю историю. Там же, где структура человеческого сознания всерьез расходилась с рационалистическими нормативами Просвещения, например, у «дикарей», «примитивных народов» к ним царило отношение, как и «нелюдям», что помимо всего прочего служило оправданием рабства и колонизации. Показательно, что Западный расизм и позорная практика работорговли в Америке сосуществовали с развитием либеральных и рационалистических доктрин, а виднейшие прогрессисты часто являлись рабовладельцами с расистским подтекстом. И одним из показателей отличия людей от «недолюдей» в Новое время был именно уровень технического развития, т.е. уровень отчуждения человеческого субъекта от объектной природы. Редкой для эпохи Просвещения была позиция Жан-Жака Руссо, воспевавшего «добрых дикарей» и считавшего развитие техники источником роста человеческих пороков» (153, с.348-349). Последний пример показывает важность и остроту не только для науки, но и для других социальных сфер онтологических и гносеологических идеологических установок. Они, по сути, задают границы не только мирозданию, но и самому человеку.
Онтологические и гносеологические социальные ограничения тесно связаны с языковыми, слабее – с этическими ограничениями. Однако эта ситуация характерна только для современного общества и современной науки, которая требует точных языковых дефиниций, но при этом разделяет знание и этику, хотя об ответственности учёных за результаты своего труда говорят довольно часто. В античной науке, напротив, стремились достичь идеалов гармонии истины, добра и красоты, в средневековье этические ограничения даже подавляли гносеологические и научные изыскания. М. Фуко показал, что «фактически дознание было начальным, но основополагающим элементом формирования эмпирических наук… Пожалуй, правильно сказать, что… естественные науки, до некоторой степени, возникли в конце средних веков из практики дознания… На пороге классического века Бэкон, законовед и государственный муж, пытался перенести в область эмпирических наук методы дознания»(425, с.331-332). Так гносеологические ограничения смыкались с политическими и правовыми.
Русская философия, начиная от славянофилов, стремилась к идеалам «цельного знания», в котором знание и вера, добро и красота, пребывали бы в содружестве гармоничного всеединства. В идеале онтологические и гносеологические социальные ограничения должны быть тесно связаны с не только с языковыми, но и с этическими и эстетическими ограничениями, что обеспечивало бы гармонию и соразмерность различных фрагментов господствующей идеологии и избавляло сознание её носителей от хаотизирующих внутренних конфликтов, ведущих его к деградации.
Представленная здесь структура идеологических ограничений важна тем, что она, по сути, аннулирует расхожий миф о деидеологизации. Деидеологизация означает исходя из данной системы, отказ от языка, этики, эстетики и онтологии с гносеологией. Вряд ли в каком-либо обществе подобная «деидеологизация» окажется возможной. Социально ограничивающий, посредством создания ложного представления о реальности, миф деидеологизации мистифицирует этот вопрос. На самом деле под деидеологизацией понимается не деидеологизация вообще, а избавление от чуждой «деидеологизаторам» идеологии. Своей же идеологии у «деидеологизаторов» якобы нет, но это не её отсутствие, а либо их сознательное лукавство, либо их предельная идеологизированность, которая настолько глубока, что даже не осознается ими; может иметь место и известная наивность, не позволяющая им понять эти вопросы. «Деидеологизация» в последнем смысле неосознаваемой идеологизированности – это предел тотального господства одной идеологии, достигшей статуса не обсуждаемой и неосознаваемой тайной догмы. Для господства таких идеологических догм смертельно опасно не только какое-либо их обсуждение, поиски их основ и рациональных аргументаций в их пользу, но даже сам факт их раскрытия как существующих. Стремящаяся поставить всё под свой контроль и учёт «воля к воле, соответственно сама в качестве бытия устраивает сущее. В воле к воле впервые достигает господства техника (обеспечение установленной данности) и категорический отказ от осмысления, беспамятность…» (428, с.185), - писал М. Хайдеггер. В этой ситуации «поскольку говорение утратило первичную бытийную связь с сущим, о котором речь, соответственно никогда её не достигало, оно сообщает себя не способом исходного освоения этого сущего, но путем разносящей и вторящей речи. Проговоренное как таковое, описывает все более широкие круги и принимает авторитарный характер. Дело обстоит так, потому что люди это говорят. В таком до – и проговаривании, через которое уже изначальная нехватка почвы, достигает полной беспочвенности, конституируются толки…Толки есть возможность все понять без предшествующего освоения дела. Толки уберегают уже и от опасности срезаться при таком освоении. Толки, которые всякий может подхватить, не только избавляют от задачи настоящего понимания, но формируют индифферентную понятливость, от которой ничего уже не закрыто» (427, с. 168-169). Именно на уровне таких псевдопонимающих «толков» и находятся представления об деидеологизации, выполняющие функцию сокрытия господствующей идеологии. Эти хайдеггеровские толки, к сожалению, являются обычным состояние массового сознания. При этом те вопросы, которые «толки» массового сознания обходят стороной вместе с управляющими ими идеологами, как раз и являются ключами и проходами к скрытым идеологическим догмам. Но ту же роль играют и наиболее назойливо обсуждаемые в СМИ вопросы и проблемы, которые могут быть как инструментами скрытого навязывания тех или иных догм, так и способами отвлечения от замалчиваемых вопросов. Таким образом, тотально господствующая идеология действительно деидеологизируется и исчезает, воплощаясь в произведения материальной и духовной культуры, людей и маскируясь под естественные законы и божественные установления. В либерализме сокрытие идеологии осуществляется посредством мифов естественных законов и прав и представлений об её отсутствии, а в марксизме – посредством апелляции к науке, и представлении об идеологии как отражении материального бытия.
Идеологические ограничения, имеющие по преимуществу идеальный характер, находят свою конкретизацию и материализацию на более низких уровнях пирамиды социальных ограничений. Эти ограничения, которые можно назвать вторичными, имеют смешанный, идеально-материальный характер. Эти блоки социальных ограничений можно структурировать следующим образом:
1. Политико-управленческие социальные ограничения;
2. Правовые социальные ограничения;
3. Информационно-образовательные социальные ограничения;
4. Технико-технологические социальные ограничения;
5. Экономические социальные ограничения;
6. Военно-силовые социальные ограничения;
7. Структурно-демографические социальные ограничения.
При оценке этой схемы следует учитывать, что все эти ограничения тесно переплетаются между собой, образуя систему и, конечно, они могут быть классифицированы каким-то иным образом. Достаточно очевидно и то, что эти вторичные формы социальных ограничений могут в ходе дальнейшего анализа дробиться на всё более и более малые разновидности. Однако в данной работе подобная аналитико-схоластическая операция представляется не целесообразной, так как может до бесконечности увеличить её объём и вывести за пределы собственно философии, занятой поиском наиболее общих закономерностей и явлений.
Политико-управленческие социальные ограничения выражаются во властном ограничении тех или иных социальных сфер, групп и социокультурных практик. Субъектами этой группы ограничений выступают группы и отдельные личности, имеющие по своему социальному статусу определённые властные полномочия. «Превращая отдельных людей в функции, огромный аппарат обеспечения существования изымает их из субстанционального содержания жизни, которое прежде в качестве традиции влияло на людей… Систему образует аппарат, в котором людей переставляют по своему желанию с одного места на другое, а не историческая субстанция, которую они заполняют своим индивидуальным бытием»(491, с.310), - писал К. Ясперс о бюрократии, выступающей в роли коллективного субъекта политико-управленческих социальных ограничений.
В принципе, субъектом подобных ограничений может быть любое лицо, находящееся в позиции начальника по отношению к другому лицу – учитель, контролёр, полицейский, чиновник, руководитель частной фирмы, - который может своим властно-волевым решением кого-то в чём-то ограничить. Подобная возможность называется властью, как реализованной способностью управлять. Для реализации этой власти властный субъект должен обладать свободой воли, выбора и действий, а также хотя бы минимальным пространством для реализации своих полномочий. В принципе, власть является внутренне автократичной, самопровозглашаемой. «Имеют ли два человека право отнимать у другой группы людей?… Может ли группа людей собраться, объявить себя правительством, а затем наделить это правительство правом, которым они сами не обладают? Даже если эта группа является большинством?»(484, с.27), - спрашивает американский политолог Р. Эпперсон. На мой взгляд, на этот вопрос следует ответить положительно, при условии, что найдётся другая группа людей, которая поверит в их властные права или подчинится им из каких-то иных соображений. «Чтобы не играть в тайноведение и невежество, придётся признать одно: власть – это смысловое начало. В качестве смыслов ее образы в чем-то изменчивы, а в чем-то постоянны. Но всегда и в любой культуре власть, так или иначе, принималась как позитивное начало. За властью всегда стояла некоторая бытийственная утвердительность»(357, с.14), - отмечал П.А. Сапронов.
Объектом политико-управленческих как и других социальных ограничений выступает человек в своём индивидуальном и коллективном существовании. Ограничению при этом подвергается всё многообразие его антропообразующих качеств: телесно-физиологических, психических и социальных (См. 95, с.75).
Более подробно феномены власти, управления и вытекающих из них ограничений проанализированы в работах Ю.П. Аверина, Аристотеля, М. Вебера, Р. Генона, И.А. Гобозова, Г. Дебора, Н.В. Жмарёва, С.Г. Кара-Мурзы, Н. Лумана, Ф. Ницше, Платона, М. Сах Сварнкара, М. Фуко и других авторов.
Политико-управленческие социальные ограничения тесно связаны с другими формами социальных ограничений, предопределяясь идеологией и находя своё выражение в праве, экономике, и прочих областях.
Правовой блок социальных ограничений находит своё выражение в существующей в обществе правовой системе и является производным от этических и языковых ограничений и политико-управленческих решений. Система права представляет собой официально принятые и обычно опубликованные законы, документы, распоряжения и инструкции, регулирующие те или иные аспекты социальной практики. Непосредственным субъектом правовых социальных ограничений являются органы законодательной власти и субъекты политико-управленческой деятельности. Функционирование системы права невозможно без правоохранительных органов и право применяющих (суды, юристы) социальных организаций и лиц. Особенностью правовых ограничений является формальная обязательность их исполнения и наличие социальных санкций (репрессий) за их нарушение, чего в случае политико-управленческих социальных ограничений может не быть. Это означает, что правовые ограничения являются закреплением политико-управленческих социальных ограничений. В качестве примера правовых социальных ограничений можно привести отсутствие каких-либо законодательно закрепленных прав, свобод, льгот, гарантий или напротив наличие запретов, ограничений на какие-либо виды социальной практики. Под правовыми ограничениями можно понимать правовые обязанности в трактовке Н.Н. Алексеева, как «вынужденность каких-либо положительных и отрицательных действий, безразлично, проистекает ли она из внутренних побуждений или из внешнего давления» (13, с.155).
Для Гегеля «право есть не «норма», но как бы «нормальное бытие человеческого духа»; право есть правое существование воли, правильный способ ее жизни, или правильное состояние человеческой души» (Цит. по 175, с.306), то есть он рассматривает правовые ограничения как осознанную зрелым человеком необходимость.
Иную, нигилистическую позицию по отношению к правовым социальным ограничениям занимает М. Штирнер. «Я сам решаю, – имею ли я на что-нибудь право, вне меня нет никакого права. То, что мне кажется правым, - и есть правое. Возможно, что другим оно и не представляется таковым, но это их дело, а не мое, пусть они обороняются. И если бы весь мир считал неправым то, что, по-моему, право и его я хочу, то мне не было бы дела до всего мира. Так поступает каждый, кто умеет ценить себя, каждый в той мере, в какой он эгоист, ибо сила выше права с полным на это правом» (471, с.226) (несложно заметить, что именно этой философией руководствовались А. Гитлер и современные США не международной арене, хотя и многие их жертвы вели себя, по сути, точно также).
Вообще среди систем правовых ограничений можно выделить три основные системы, исходящие по источнику правовых ограничений из трёх парадигм. Первую парадигму и систему права можно назвать трансцендентно ориентированной. В этой системе источник права трансцендентен, а реализуется она в монархии и теократии. В органической системе права источником права считается народ и реализуется она в форме демократии. В третьей концепции источником права является просто место, «седалище» власти (Т. Гоббс) и реализуется она в форме диктатуры. В 20 веке нередко имела место комбинация второй и третьей парадигм, когда формальные отсылки к воле народа и демократические процедуры сочетались с фактической диктатурой (СССР). Подобная комбинация была далеко не случайной, так как обе последние системы права в конечном итоге покоились на силе, в полном соответствии с идеями М. Штирнера. Это верно и в отношении систем права построенных исходя из теории «общественного договора». Очевидно, что к этим системам права не относится принцип «не в силе Бог, но в правде», присущий трансцендентной концепции и в ситуации верховенства силы все правовые ограничения достаточно условны, а потому и на соблюдение их особенно рассчитывать не стоит. Нарушение права сильным в этих концепциях не исключение, а негласная норма, а его соблюдение сильным носит зачастую демонстративно-показной и пропагандистско-манипулятивный характер. По сути, это торжество воинствующего беззакония, причём концептуально оправданного, которое мы все можем постоянно наблюдать в современном мире. В этой связи курьёзом выглядит концепция «открытого общества» К. Поппера, основная идея которого «власть закона»(337-Т.1, с.8), ибо Поппер отрицает трансцендентные источники права, основываясь на первичности штирнеровского индивида и демократическо-договорной легитимации социальных и правовых институтов.
Сами по себе системы правовых социальных ограничений существенно отличались в разных культурах. «Античное право – это право тела, или евклидова математика общественной жизни, ибо различает в составе мира телесные личности и телесные вещи и устанавливает отношения между ними. Правовое мышление ближайшим образом родственно мышлению математическому… Первым созданием арабского права было понятие бестелесной личности» (467, с.69), – писал О. Шпенглер. Европейское же право, по О. Шпенглеру, внутренне конфликтно, так как «говорит» на языке античности, но само по себе является правом функций, а не физических тел. Это показывает, что содержание и структура правовых социальных ограничений, будучи обусловленной господствующей в цивилизации идеологией, мыслилась и реализовывалась весьма разнообразно. Такое явление как несовершенство законодательства с одной стороны само по себе является социальным ограничением, а с другой оказывается внутренним самоограничением самих ограничений, не дающим им развиться в полную силу.
М. Фуко отмечал, что в средневековой Европе не существовало чёткой системы социальных ограничений, в том числе и правовых. Наказания были жестокими и зрелищными, но не систематичными, задачи исправления преступника они не имели. «Вообще говоря, при королевском режиме во Франции каждый общественный слой располагал собственным полем терпимой противозаконности: невыполнение правил, многочисленных эдиктов или указов являлось условием политического и экономического функционирования общества»(425, с.119). «XVIII век изобрел техники дисциплины и экзамена, подобно тому как средневековье – судебное дознание» (425, с.330), - писал М. Фуко. Только в Новое время в Западной Европе стала формироваться полноценная система социальных ограничений в рамках дисциплинарного общества. Ведущая роль в её создании принадлежала именно юристам.
Внутреннее несовершенство законодательства тесно связано с другой группой социальных ограничений – информационно-образовательной. Эти ограничения непосредственно выражаются в препятствиях перемещения, использования и обладания информацией, как сведениями, разрешающими некую неопределённость и регулируют такие образовательные феномены, как знания, умения и навыки. Знания в отличие от информации имеют не только количественное, но и качественное измерение, меняя их носителя (человека), также как умение и навыки. Ограничения в этой сфере могут иметь как объективный характер, обусловленный простым отсутствием данных (информации, знания), так и субъективный, обусловленный их сокрытием, цензурой, запретом и т.п. Эти социальные ограничения могут иметь идеальный характер, так как знание идеально, и материальный, связанный с техникой и материальной культурой характер, исходить от людей и от вещей. В настоящее время, исходя из концепции информационного общества, снятию информационных ограничений, свободе передвижения информации, как, впрочем, и образованию уделяется большое внимание. В этой связи необходимо указать на некоторые ограничивающие нас мистификации, связанные с теорией информационного общества. Например, Д. Белл (См. 35) утверждает, что не энергия и сырье, а информация является основой производства и выдвигает на этом основании информационную теорию стоимости, как будто информация – есть «мера всех вещей». На самом же деле информация без энергии и сырья ничего не стоит, так как ни производство, ни человек без них функционировать не могут. Это взаимосвязанные компоненты и отсутствие одного, автоматически обесценивает другие. Не следует преувеличивать роль и значение информации и образования, превращаясь в утопистов. «Можно сказать, что талант не может проявиться без технических методов – тренировок, репетиций, овладением теми или иными навыками. Однако важно то, что техника не создает даров, а лишь эксплуатирует их. Музыкальному слуху и хорошему вкусу ясно отсутствие самого феномена искусства в бездарной музыке и бездарных стихах, держащихся на одной лишь декламаторской версификаторской технике. Оказывается, что техника не может подменить двух вещей, которые условно можно назвать данными и талантом, а вместе – даром» (487, с.540), – замечает С.А. Фёдоров. Сказанное относится не только к образованию, но и к информации. Показательно, что сам Д. Белл не слишком оптимистично оценивает роль информации в её связи со свободой в постиндустриальном обществе. Так он предвидит обострение информационного дефицита по следующим причинам:
- больший объём информации увеличит её неполноту, при этом возрастут издержки по её сбору и хранению;
- информация будет всё более специализироваться, что затруднит её восприятие и понимание;
- рост скорости передачи и объёма информации сделают актуальной проблему ограниченности индивида в его способности воспринимать и перерабатывать информацию;
- обострятся проблемы осмысления и интерпретации информации;
- получит широкое распространение дилетантизм как малое знание о многом.
По сути, Белл признает, что эта система станет обществом координационного, временного и информационного дефицитов, в котором рост благосостояния будет соответствовать уменьшению свободы, – а значит прогрессирующему росту социальной ограниченности. В результате, как справедливо замечает А.В. Бузгалин, информационно-постиндустриальное общество оказывается тупиковой ветвью социального развития (См. 63).
Технические и технологические ограничения тесно переплетаются с образовательно-информационными, так как образование во многом само является, а по мере его информатизации становится технологией. Эти ограничения являются производными от научных и онтологическо-гнесеологических, в меньшей степени эстетических и языковых. Субъектом этих ограничений выступает социальная фигура Техника (Ф.Г. Юнгер) и технократа. Своё выражение эти ограничения находят в отсутствии (несовершенстве) или наличии тех или иных технических средств и технологий, способах и результатах их использования. Двойственность в понимании технических и технологических ограничений обусловлена тем, что они могут рассматриваться как с позиций их субъекта, так и объекта. Для технократически ориентированных деятелей и мыслителей – Ж. Аттали, Д. Белла, З. Бжезинского, К. Маркса, П. Пильцера и других техника – это инструмент присвоения «безграничного богатства», которое по формуле П. Пильцера равно сырью, умноженному на технологию; техника и технология – это ключ к накоплению ресурсов (См. 307). Как замечает в этой связи М. Хайдеггер, «сущность техники не есть что-то техническое. Поэтому мы никогда не почувствуем своего отношения к сущности техники, пока будем думать о ней, пользоваться ею, управляться с ней или избегать ее. Во всех этих случаях мы еще рабски прикованы к технике, безразлично, утверждаем ли мы ее с энтузиазмом или отрицаем» (308, с.45). Подлинная сущность техники по Хайдеггеру заключается в воле к власти и тотальному контролю над бытием, а не просто присвоению богатства природы, что является лишь частью её сущности. Техника это инструмент извлечения и присвоения богатств окружающего мира и его подавления в случае сопротивления этому и контроля. Для субъекта этого подавления и, фактически, ограбления бытия социальная ограниченность техники и технологии проявляется в её несовершенстве в плане достижения результатов её властно присваивающих функций. А так как аппетиты технократического субъекта безграничны, то снятие технико-технологических социальных ограничений в этом случае видится как бесконечное совершенствование техники и технологии с перспективой создания нового абсолютно искусственного и подконтрольного мира (и уничтожения мира естественного). Однако этот мир обречён на гибель, так как по справедливому замечанию Ф.Г. Юнгера техника и технология не создаёт ничего нового, она лишь эксплуатирует и преобразует или разрушает то, что уже есть. А так как технократия ориентирована не только на присвоение и потребление богатства, но и на тотальную власть, то она просто не может, в принципе, допустить существование не клонированных людей, генетически не модифицированных растений, лесов, выросших естественным образом, а не посаженных, даже нестриженой травы на газонах. Идея создания искусственного «Дивного нового мира» (О. Хаксли), неизбежно приводит к необходимости не только потребления, но и ограничения и даже ликвидации естественного природного и социального мира, частью которого является человек. Поэтому с точки зрения объектов, подвергающихся воздействию техники и технологии, социальным ограничением является её развитие и совершенствование.
«Глобальный технологизм ведет к превращению человека из социально-культурной личности в человеческий фактор Техноса. Человеческий фактор, бурно протестуя против ограничения своей свободы культурными регуляторами, довольно легко смиряется, если они будут техническими. Лишение индивида имени, замена его номером и тем более «клеймение», всегда воспринималось как надругательство над достоинством человека. Но если номер обещают ставить лазерным лучом и хранить в компьютере, то у «прогрессивной общественности» особых возражений нет… Обыск в форме ощупывания одежды руками отвергается как нечто унизительное, но если по телу водят электронной палкой, все стоят как покорные бараны… Лишь бы не со стороны живых людей, не от имени культуры, техникой – и свободолюбивые либералы соглашаются на самый тотальный контроль. Открытое гражданское общество закрыто и регламентировано на меньше, чем традиционные, культурные, разница в том, что закрытость здесь «усовершенствованная», технологическая. В условиях глобализации демократия вытесняется технократией» (225, с.80), – справедливо замечает В.А. Кутырёв.
Поэтому антитехнократические позиции являются вполне обоснованными и закономерными попытками борьбы с техническими формами социальных ограничений, даже в таких радикальных формах, как движение луддитов. «Духовная культура все менее котируется в наш машинный век, ибо механическая цивилизация легче усвояема, чем подлинная культура. Она требует больше внешней привычки, чем духовного воспитания. Технически цивилизованный человек может быть (и нередко бывает) дикарем в культурной области. Он может превратиться в гориллообразного робота с атомной бомбой в руках» (233, с.353), – писал С.А. Левицкий. Осталась ли эта возможность лишь нереализованной, или реализовывать её было и не нужно в силу изначальной близости «технически цивилизованного человека» к этому гориллообразному состоянию, на что, в частности, по-своему указывали К. Маркс и Ч. Дарвин?
«О догматизме Техника можно сказать следующее: по своей жесткости и эффективности этот догматизм не уступает теологическому. В той части, которая касается знаний о ходе развития аппаратуры и организации это не ощущается, поскольку здесь каждое новое изобретение неизменно уничтожает предшествующие достижения, отбрасывая их как ненужный хлам. Не знание как таковое, а вера в это знание делает технократов догматиками. Техник либо вообще не задумывается о нужности своего знания, либо не ставит ее под сомнение. И более того! Он еще и не терпит, чтобы другие задумывались о нужности его знания или ставили её под сомнение! Критические высказывания техников по поводу «Совершенства» и «Машины и собственности» поразили меня в первую очередь своей неприкрытой догматичностью. Возражения без каких-либо доводов, голословные утверждения, непоколебимая вера в то, что с помощью машин будут разрешены все трудности, которые в будущем могут встать перед человечеством…» (487, с.7), – писал Ф.Г. Юнгер.
Похоже, однако, что оппоненты Ф.Г. Юнгера в известной мере сами ненамного отличаются от создаваемых ими машин, проявляя в них свою големическую сущность. Ведь догматизм является ничем иным, как формой социальной ограниченности, характерной для биороботизированного строя психики, бездумно механически выполняющего заложенную в него культурно-идеологическую программу. Это уже (или ещё) не человек, а «человеческий фактор Техноса» как верно замечает В.А. Кутырёв.
Л.Н. Москвичёв вскрывает сущность технобюрократической идеологии и ментальности, которые, в силу актуальности проблемы, необходимо показать и здесь. Идеал бюрократии заключается в механической эффективности при исполнении предписанных задач без учёта более широкой цели. «Идеологическим императивом бюрократизированной системы становится требование компетентности, квалифицированности при решении всё более узких специфических проблем»(294, с.198). А квалифицированность отождествляется здесь с ориентацией на строго фиксированные правила и предписания, при отказе от каких-либо моральных и идеологических оценок деятельности. Поэтому от бюрократа, скорее всего нельзя будет получить вразумительного ответа о причинах и целях его деятельности. Причинность для него ограничена уровнем законов и инструкций. При этом всё чуждое навязанному бюрократией ритму и направлению общественного развития рассматривается как негативное. Бюрократ подменяет содержание формой, а форму считает содержанием. Пределы внешнего мира ограничиваются у бюрократии сферой её деятельности, которая заключается в улаживании функционально-технических связей и отношений, то есть совершенствовании форм, в несовершенстве которых якобы коренятся все социальные проблемы и противоречия. Других социальных проблем не существует, либо они уже решены, а потому бюрократический мир – «лучший из возможных миров». Таково содержание распространённой сегодня технобюрократической, социально ограниченной ментальности.
Технические социальные ограничения опасны не только своей властно-потребительской установкой по отношению к биосфере, но и своим влиянием на деградацию человека, что и делает их сущность социально ограниченной. По свидетельству Л.Ф. Авилова (См. 5), В.А. Межетериной (См. 275) и других авторов, человек деградирует вместе с разрушаемой им биосферой. По расчетам Л.Ф. Авилова объём интеллектуальной части мозга неандертальца составлял 1400 ед., кроманьонца – 1700 ед., а современного человека – 1200 ед., то есть 70% от кроманьонца (См. 5, с.7). «Доктор биологических наук Б. Сергеев, анализируя данные антропологии, пришел к выводу, что со времен первой династии фараонов, мозг человека идет на убыль со скоростью 1 см куб. за каждые сто лет» (5, с.9). Сходные процессы отмечает и Д. Констэбл (5, с.9). Похоже, что возникшая сравнительно недавно теория происхождения человека от обезьяны косвенно отразила его приближение к ней. Зато в орудиях производства, техники и технологии за это время произошёл большой скачок. Возможно, в будущем возникнет теория происхождения человека от робота.
Современная реальность опровергла представления многих техноутопистов о том, что освобождённое техникой от труда время, будет потрачено человечеством для творчества и самосовершенствования. Большинство тратит его на примитивные развлечения, часто с помощью той же техники (телевидение, игровые автоматы и т. д.), пьянство, удовлетворение животных инстинктов, да и зачем развивать свои способности, если всё за тебя сделают машины? Неиспользуемые потенциалы в результате всё больше и больше деградируют, да и сама техника не даёт обещанной свободы, заставляя тратить время на своё использование, ремонт, обучение управления ею.
С другой стороны, чтобы не использовать технику, живя в гармонии с биосферой, допустим по даосским принципам, требуется очень высокий уровень духовного и психофизического развития. Чтобы следовать путём Дао, нужно не только очень хорошо чувствовать изменения энергетики природы и своего организма, но и уметь строить своё поведение, сообразуясь с ними. Неслучайно на лоне природы поселялись те, кто достиг высших уровней духовного и психофизического развития – святые всех религий, йоги, мистики, даосы. Большинство современных людей неспособны к подобному образу жизни из-за деградации и неразвитости своих способностей, причём технократическая модель развития не даёт, и не будет давать им подобной возможности, являясь, по сути, тупиком, обрекающей их лишь на незавидную функцию узкоспециализированного винтика глобального социокультурного «техноса». Именно эти факторы делают технократический путь развития социально-ограниченной, репрессивной и тупиковой практикой, ведущей к деградации человека и уничтожению естественного мира, даже в том случае, если удастся избавиться от войн и техногенных катастроф, что, однако невозможно, ибо потребительско-властные установки технократизма неизбежно будут порождать конфликтность, а развитие техники – техногенные катастрофы. Единственным путём снятия технических и технологических социальных ограничений, является отказ от техногенной модели развития и возврат к существовавшим в прошлом биогенным, гармоничным с природой и космосом цивилизационным моделям.
Следующая группа социальных ограничений – экономические, находят своё выражение в ограничениях на перемещение, использование и обладание экономическими ресурсами (сырьем, энергией, изделиями, продовольствием) и средствами их обмена и символического выражения (деньгами, акциями и т.п.). Субъектами этих ограничений выступают их формально-юридические владельцы и фактические распорядители. Объектами экономических социальных ограничений оказываются индивиды и группы, не являющиеся владельцами и распорядителями экономических ресурсов, а также природный мир, являющийся объектом эксплуатации и разрушения в ходе экономической деятельности общества. Согласно догмам господствующей в современном обществе метаидеологии экономические, производственные отношения, являются системообразующим фактором и базисом общества, интегрирующим все остальные подсистемы общества в единое целое. Эта установка является общей для марксизма, либерализма (во всех их разновидностях), и ряда других современных идеологий. Признавая теоретически или практически экономику и экономические интересы первичными, общество тем самым имплицитно признаёт, что его цели – это только потребление, размножение и, неизбежное при подобных установках, разрушение и эксплуатация окружающей среды. Экономические социальные ограничения, таким образом, тесно связаны с этическими социальными ограничениями. При этом приходится признать, что руководствующееся подобной идеологией общество, уступает биосферным популяциям животных и растений, так как они, имея своей внутренней целью подобно экономикоцентричному обществу потребление и размножение, не разрушают окружающую среду.
«Согласно Зомбарту, современную эпоху можно назвать эрой экономики, что точно отражает указанную нами аномалию (превращение экономики из средства в самоцель). Речь идет, прежде всего, об общем характере цивилизации в целом. Поэтому даже внешнее могущество современной цивилизации, достигнутое за счет промышленно-технического прогресса, не может изменить ее инволюционного характера. Более того, эти два аспекта взаимосвязаны, так как весь мнимый «прогресс» был, достигнут как раз за счет того, что экономический интерес возобладал надо всеми другими. Сегодня можно говорить о самой настоящей одержимости экономикой, в основе которой лежит идея, что как в индивидуальной, так и в коллективной жизни наиболее важным, реальным и решающим является экономический фактор. Вследствие этого в сосредоточении всех ценностей и интересов на производственно-экономической области, усматривают не невиданное ранее отклонение современного западного человека, но нечто вполне нормальное и естественное; не случайную потребность, но нечто желательное, заслуживающее одобрения, развития и восхваления» (475, с.91-92), – писал Ю. Эвола, который, кстати, тесно связывал экономическую одержимость с одержимостью сексуальной. Подобная одержимость экономикой становится причиной преувеличения значимости экономических ограничений и их мистификации. Главной социальной проблемой начинает казаться нехватка денег (или, в лучшем случае, ресурсов), а все усилия направляться на их накопление. По сути, накопительный инстинкт присутствует у многих животных, но если у бурундуков, белок и других грызунов он инстинктивно ограничен, например определённым сезоном, то у многих социально-ограниченных людей благодаря культуре, снявшей с них некоторые инстинктивные ограничения, этот инстинкт может функционировать совершенно беспрепятственно, порождая различных миллионеров и миллиардеров. При этом их интеллектуальные и некоторые иные «технические» способности могут быть весьма совершенными, несмотря на то, что их цель – обслуживание некоторых преобразованных и извращённых культурой достаточно примитивных животных инстинктов.
Такая социальная ограниченность мешает заметить, понять, а тем более ликвидировать многие экономические ограничения. Истинной причиной и подоплекой всех экономических ограничений является недоразвитость или деградация духовных и психофизических способностей человека. Действительно, в случае развитости этих способностей сырьевые и энергетические ограничения могут быть легко разрешены путём изменения производства и нахождения их новых источников, а проблемы их социального распределения решены посредством усовершенствования социальной организации и структуры потребностей самих людей. У К. Маркса и Ф. Энгельса решение этих вопросов представлено в искажённой и мистифицированной форме, так как всестороннее развитие человека и его способностей предполагается там как следствие захвата пролетариатом политической власти и средств производства и последующего развития техники и технологии, которые якобы дадут всем массу свободного времени. При этом ускользает от внимания, что время в этом случае будет потрачено на развитие техники и технологии и отдых от этих усилий, а не на развитие способностей. На самом же деле, чтобы захватить власть, нужно сначала развить и использовать эти способности, а необходимое для этого время можно было найти в основном за счёт отказа от технико-производственной деятельности и аскетизма. Именно этот путь и предлагали религии, прежде всего восточные, и, в меньшей степени, более близкое К. Марксу иудохристианство. В отличие от К. Маркса, А.С. Пушкин в своей известной «Сказке о попе и о работнике его Балде» предлагает иной, отличный от марксова способ разрешения экономических и социальных противоречий. Аскетичный, но талантливый и трудолюбивый Балда не устраивает революций и не захватывает средств производства Попа, а переигрывает одержимого экономикой священнослужителя, по его правилам, не принимая, однако, ни идеологии Попа, ни оставшегося после него «наследства». Похоже, что серьезный герменевтический разбор смысла этой сказки ещё ждёт своих исследователей.
Военно-силовые социальные ограничения связаны с функциями защиты и принудительной реализации тех или иных социальных норм, установок и ценностей. Субъектом их выступают военно-силовые социальные структуры и ведомства, являющиеся, однако, как правило, инструментами реализации не своих собственных ценностей и интересов, а интересов других, господствующих в обществе личностей и групп. Легальной монополией на применение силы обычно обладает государство, по мере ослабления которого эта монополия начинает делиться им с частными охранно-силовыми структурами и международными организациями.
Объектом этих социальных ограничений обычно оказываются личности и группы (вплоть до суверенных государств) не желающие выполнять или нарушающие нормы, установки (интересы), ценности и планы господствующих или претендующих на господство групп, инструментом которых обычно становится государство с его силовыми ведомствами или негосударственные вооруженные формирования, которые часто бывают нелегальными.
Наиболее заметной и острой формой реализации военно-силовых социальных ограничений является война, военный конфликт, вооруженное противоборство, особенностью которых является насилие, сопряжённое с ранениями и убийством людей и масштабными разрушениями материальных и духовных ценностей.
Отношение к этому виду социальных ограничений у многих сегодня отрицательное. «Нет слов: мир, конечно, большая ценность. Но наивысшая ли? Если наивысшая, то почему люди, народы, государства всю свою долгую историю вели войны, странным образом пренебрегая этой ценностью? – Было бы наивно и глубоко ошибочно полагать, что велись они ради лишь корыстных интересов, ради захватов, аннексий, экономических выгод или иных материальных и низменных побуждений. Нельзя, разумеется, отрицать роль таких побуждений, но нельзя и сводить все к ним. В человеческом словаре есть ведь и такие понятия, как честь, достоинство, свобода... В их защиту люди выступали во все времена, жертвуя собственными жизнями...»(331-Т.2, с.116), – писал Э.А. Поздняков. По мнению Клаузевица «война – это акт насилия, имеющий целью заставить противника выполнить нашу волю» (Цит. по 331-Т.2, с.152). Это определение позволяет говорить не только о классических вооруженных войнах, но и войнах экономических, идеологических, информационно-психологических и прочих. Это показывает тесную взаимосвязь военно-силовых социальных ограничений с экономическими, политико-управленческими, технико-технологическими, структурно-демографическими и информационно-образовательными и правовыми социальными ограничениями.
«Как бы то ни было, но понятие jus ad bellum (право войны) пока еще существует, и никто от него добровольно не отказывался» (331-Т.2, с.153), – считает Э.А. Поздняков. Происходит это потому, что дать приемлемое для всех определение справедливой войны и агрессии, никому пока не удалось, ибо различие ценностно-целевых ориентаций разных культур делает это невозможным. Однако так как массовое сознание значительной части людей обоснованно не приемлет войну и негативно реагирует на военно-силовые (насильственные) ограничения, манипуляторы сознанием предпочитают избегать термина «война», называя её «контр террористической операцией», «операцией по разоружению Ирака» и т.п. С другой стороны, «оказывается, в 1990 г. только в СССР и только в автодорожных катастрофах погибли свыше 60 тыс. человек и более 400 тыс. человек получили ранения, то есть за один лишь год в четыре раза больше, чем за десять лет войны в Афганистане»(331-Т.2, с.169). А сколько людей гибнет в дополнение к этому в морских, авиационных, железнодорожных катастрофах, в драках, от рук преступников, от других причин, пропадает без вести по всему миру? Количество их видимо потрясёт. Однако, отмечает Э.А. Поздняков, здесь мы почему-то не слышим гневных возгласов пацифистов. В этом проявляется противоречивость и расколотость массового сознания. На самом деле, если человек не имеет права убивать и калечить другого человека, то этого права не должно быть и у техносферы. Если же признавать допустимыми подобные издержки ради выгод от технократического пути развития, то, наверное, не стоит протестовать против войн и уголовного бандитизма, ведь у их субъектов тоже есть свои интересы, как и у технократов или производителей и торговцев, производящих и сбывающих опасные для здоровья и жизни товары. Получается, что последовательный пацифизм, гуманизм и экологизм должны начинаться с отрицания технократической модели развития и безудержной погони за прибылью, а не с борьбы или войны за мир и защиты прав животных. В противном случае следует признать: то, что не позволено человеку - убивать других людей, позволено новым «богам» – технике и капиталу.
Путь снятие военно-силовых социальных ограничений, лежит через духовно-нравственное и психофизическое совершенствование человека, в результате которого они могут стать ненужными, подобно государству в коммунистической утопии марксизма. Однако современное общество движется в основном лишь в направлении технико-технологического усовершенствования военно-силовых социальных ограничений. Что свидетельствует о том, что в будущем их значение будет лишь возрастать.
Каждый отдельный блок социальных ограничений выявляет одну из граней социальных ограничений как системы. Военно-силовые социальные ограничения наиболее ярко демонстрируют нам насильственный, принудительный аспект всех социальных ограничений, проявляющийся с той или иной интенсивностью во всех их формах. Всякое социальное ограничение есть насилие, как форма проявления необходимости, но военно-силовые социальные ограничения есть квинтэссенция этого насилия.
Последней группой социальных ограничений выступают структурно-демографические ограничения, которые связаны с объективно существующей в обществе поселенческой, классово-стратовой, сословной, профессиональной, демографической и половозрастной структурой населения. Этнические и этноконфессиональные социальные ограничения легко разлагаются на расово-биологические ограничения, не являющиеся социальными, которые рассматриваются в работах В.Б. Авдеева, Л. Вольтмана, В.А. Мошкова и других авторов и культурные ограничения, систему которых мы и рассматриваем.
Субъектом воздействия на эти структуры могут выступать различные властные организации, способствующие их изменению, объектом ограничений выступают здесь отдельные личности и группы, скованные теми или иными структурно-групповыми рамками. Преодоление этих социальных ограничений достигается личностями и группами с помощью горизонтальной и вертикальной социальной мобильности (См. 69, 203, 261). Однако при переходе из одной группы в другую социальные ограничения для личности или группы не исчезают, а только видоизменяются. «…Мобильность – то есть движение между позициями, обеспечивающими неодинаковый доступ к ограниченным материальным и социальным благам, оказывается основным способом удовлетворения витальных потребностей. Резко суженой становится сфера, в которой индивидуумы исключительно себе могли быть обязанными в достижении жизненных успехов» (261, с.15), - писал С.А. Макеев. При этом главным мотором социальной мобильности выступает «отделение индивида от ресурсов жизнеобеспечения», которое «ставит его в позицию просителя, заставляет перемещаться к более обильным источникам благ» (261, с.15), то есть это движение является вынужденным. Свобода же обнаруживает себя в независимости от разного рода структур, учреждений, условий существования, замечает С.А. Макеев. Государство, социальные институты и хозяйственный механизм, по мнению С.А. Макеева, являются главными источниками побуждения и принуждения человека к определённому типу социального поведения и конкретным направлениям мобильности. Таким образом, мы видим, что структурно-демографические социальные ограничения тесно связаны с экономическими, правовыми, политико-управленческими, техно-технологическими и информационно-образовательными социальными ограничениями. Чем больше ограничений в этих сферах, тем более затруднена мобильность. Ограниченность личности проявляется здесь, прежде всего, в её социально-групповой зависимости, а ограниченность группы – зависимости от определённых идеологических, ценностно-целевых и поведенческих клише. Ценностно-целевые установки личности, так же, безусловно, определяют тип её социального поведения, являясь для неё субъективным фактором, в отличие от объективного фактора групповых ограничений.
Усиление в современном обществе структурно-демографических ограничений нашло своё отражение в структурализме, считающем, что поведение человека определяют безличные и бессознательные структуры, в которые он включен (См. 69).
Заметный вклад в изучение структурно-демографических социальных ограничений внёс марксизм, показавший классово-групповую детерминированность индивидуального сознания и исследовавший феномен общественного сознания. По мнению К. Маркса «отчуждение человека нарастает по мере усиления могущества общества» (270-Т. 42, с.28).
Гендерные исследования также внесли заметный, хотя и неоднозначный, вклад в познание структурно-демографических ограничений. Как отмечала О.А. Воронина, «гендер… оказывается одним из базовых принципов социальной стратификации. Другими такими принципами выступают этничность (национальность), возраст, социальная принадлежность. Сочетание этих стратификационных принципов усиливает действие каждого из них»(100, с.30). Гендерные различия, как социально сформированные половые идентификации и модели поведения (См. 52-Т.1, с.109-111) есть проявление структурно-демографических ограничений, исходящих из демографической и стратификационной структуры общества. Поэтому вполне правомерно вести речь о гендерных социальных ограничениях, описанию и критике которых в значительной мере и посвящены гендерные исследования (См. 100).
В отличие от военно-силовых, структурно-демографические социальные ограничения не являются негативным явлением сами по себе, так как они, создавая дифференциацию, создают и социальную свободу в обществе, которая стала бы невозможной в условиях социального хаоса (См. 54). Ликвидация этого вида социальных ограничений означала бы ликвидацию социальной структуры и иерархии вообще, путём достижения полной социальной однородности. Подобную однородность можно рассматривать как проявление социальной деградации «вторичного упрощения» по К. Леонтьеву. Поэтому решение проблемы снятия этих ограничений достижимо именно через создание многообразных каналов горизонтальной и вертикальной социальной мобильности, но не любой, а такой, которая бы позволяла всякому человеку занять именно то социальное место, которое наиболее соответствовало бы уровню развития его способностей, его образовательной и профессиональной подготовке и ценностно-целевым ориентациям.
Субъективно этот вид социальных ограничений наиболее остро начинает ощущаться, когда человек находится не на своём месте, то есть его способности и желания не соответствуют его социальному статусу. Подобные люди становятся источником социальных конфликтов и разнообразного деятельностного брака. Для решения этой проблемы необходим отказ от ориентации на приспособление к безличным и социально-производственным потребностям, которые на деле являются потребностями господствующих социальных групп и переход к творческо-самореализационнным установкам, способствующим личностному и профессиональному самораскрытию. В этом ракурсе справедливыми являются только те структурно-демографические ограничения, которые дают возможность человеку находиться на своём месте, а несправедливыми – те, которые этому мешают. Реализация идеала «человек на своём месте» и является, по сути, исполнением известного принципа «от каждого по способностям, каждому по потребностям». К реализации этого идеала близко подошла кастовая система древней Индии, теоретически дававшая каждому типу людей с пользой для общества максимально реализовать свою природу (См. подр. 148, с.126-135). Однако в современном обществе преобладает противоположная установка на приспособление к существующим тенденциям и реалиям, порождающая массы людей, находящихся не на своём месте и ведущая к системной социальной деградации, посредством роста деятельностного брака, выражающегося, в частности, в преступности, коррупции, терроризме и т.п. По сути подражательно-приспособленческая установка как ложный стереотип социального поведения создаёт самовоспроизводящийся механизм поддержания и роста социальных ограничений.
Рассмотрением структурно-демографических социальных ограничений мы завершаем описание статической модели социальных ограничений. Однако необходимо рассмотреть эту систему в динамике. Пример подобного рассмотрения содержится в работе автора (285).
Динамическое функционирование системы социальных ограничений может рассматриваться в колебательно-волновом режиме. Когда, например, одна из сторон диалектической пары ограничений усиливается, а другая ослабевает. Так внешние ограничения могут для человека или общества усилиться, а внутренние, напротив ослабеть. Если же по мере усиления одной стороны диалектической пары социальных ограничений не будет происходить ослабления другой и наоборот, то система социальных ограничений выйдет в этом случае из равновесия и произойдёт её разрушение или трансформация. Например, если при ослаблении внутренних, нравственно-этических ограничений у человека одновременно произойдёт и ослабление внешнего, социального давления на него, то он, скорее всего, совершит нечто существенно изменяющее его положение. Поэтому для сохранения устойчивости системы социальных ограничений желательно вводить её в колебательный режим, когда ослабление одного блока социальных ограничений автоматически влечёт за собой усиление другого. Классическими примерами подобных устойчивых систем социальных ограничений можно назвать двухпартийную политическую систему США или концепцию разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную (при сокрытии идеологической и концептуальной власти). Подобные равновесно-колебательные социальные системы получили распространение в Западной цивилизации. Они, поддерживая у масс иллюзию свободы выбора, независимости отдельных элементов системы и прогрессивного развития позволяли поддерживать устойчивость существующей системы социальных ограничений, ставшей по сути тоталитарной и механистичной. Не случайно эти системы достаточно легко превращались в классический тоталитаризм.
Однако динамика колебательных изменений не несёт в себе качества эволюции системы социальных ограничений, ибо колебательные процессы в ней осуществляются примерно в одном диапазоне и в целом имеют балансировочный характер, пульсируя вокруг одного вектора в процессе движения системы во времени. Это ставит проблему поиска динамических эволюционных характеристик системы социальных ограничений, показывающих не её колебания, а её изменения во времени.
Так как система социальных ограничений является производным от определённой культуры, то, очевидно, что динамика её развития во времени соответствует таковой у различных культур (цивилизаций) и может быть объяснена из хода их развития в соответствии с известными разработками К. Маркса, Н.Я. Данилевского, О. Шпенглера, Л.Н. Гумилёва, А. Тойнби, О. Тоффлера и других авторов. Если мы рассматриваем систему социальных ограничений как развивающуюся циклически (а линейные модели К. Маркса и постиндустриалистов могут рассматриваться как фрагменты больших, непознанных и непонятых этими авторами циклов), то нам становится ясна общая схема развития системы социальных ограничений от зарождения к росту, расцвету, упадку и гибели. Этот цикл может быть разделён на разное количество фаз: на 4 как у времен года, на 12, как число месяцев в году, на 9, как в модели А.В. Шубина (См. 473) и т.д.
Однако подобное разделение на фазы и поиски их границ имеет по преимуществу теоретический интерес, тем более что волновая модель мироздания ликвидирует жесткую дискретность между явлениями и фазами одного процесса, по сути, стирая границы между ними. Более важно, на мой взгляд, обратить внимание на признаки распада той или иной системы социальных ограничений. Эти процессы быстрого распада (разрушения) определенной культуры (и соответственно системы социальных ограничений) хорошо исследованы в монографии С.Г. Кара-Мурзы «Манипуляция сознанием» на примере разрушения советского строя. Не приходится сомневаться, что аналогично развивались события и при разрушении Российской империи накануне 1917 года и позже. Главным признаком подобного приближающегося разрушения господствующей культуры является подрыв её концептуальных основ и ценностно-целевых ориентиров, далее идёт разрушение идеологии, а следом за ней и всей существующей системы социальных ограничений, обломки которой на нижних уровнях могут, однако, сохраняться достаточно долго в виде устаревших и неработающих законов, отдельных социальных структур подобных институтам монархии в некоторых государствах Западной Европы, технологий и т.п. Также верно и обратное вышесказанному при формировании новой системы социальных ограничений, которое начинается с появления новой концепции жизнеустройства. Таким образом, как формирование, так и разрушение системы социальных ограничений происходит, прежде всего, сверху и наблюдение за верхними уровнями социальных ограничений проясняет их временную динамику развития. Теория деидеологизации, таким образом, пытается скрыть от наблюдения эти верхние уровни системы социальных ограничений, однако сам факт её появления свидетельствует, если не об устойчивости той системы социальных ограничений, где она возникла, то, по крайней мере, о желании её авторов законсервировать существующую общественную модель. Деидеологизация, по сути, - это запрет на обсуждение господствующих ценностей и сомнений в них, то есть ни что иное как разновидность утончённой цензуры. Именно поэтому теория деидеологизации имеет тоталитарный и социально-ограничительный характер.
Подводя итоги, целесообразно будет кратко представить описанную выше системную модель социальных ограничений. Итак, системообразующим фактором социальных ограничений, как системы, является воля общества в его существующем виде к самосохранению и самоутверждению. На практике, однако, этой волей является воля к самосохранению и самоутверждению властной элиты данного общества. Воля общества к самоутверждению реализуется посредством деятельности по осуществлению концепции его социокультурного проекта, содержащей его основные ценностно-целевые установки. Этот концептуальный проект является высшим уровнем всей системы социальных ограничений, закладывающим её основные принципы.
Более низким уровнем системы социальных ограничений является идеология, задача которой заключается в приспособлении абстрактной концепции к условиям реальной жизни и психоментальным особенностям реализующего его народа. Идеология реализует себя в четырёх основных формах: 1) языка, 2) этики, 3) эстетики, 4) онтологическо-гносеологических представлений. Эти четыре формы идеологических ограничений, в свою очередь, находят свою конкретизацию и материализацию в следующих блоках вторичных социальных ограничений: 1) политико-управленческих, 2) правовых, 3) информационно-образовательных, 4) экономических, 5) военно-силовых, 6) технико-технологических и 7)структурно-демографических.
Помимо этого социальные ограничения подразделяются на позитивные, системосохраняющие в отношении общества и отдельных составляющих его людей и негативные, системоразрушающие. Причём позитивные социальные ограничения диалектически связаны с подлинной свободой, ведущей общество и личность к эволюции, а негативные социальные ограничения – с ложной свободой, ведущей общество и личность к деградации.
Субъектами внешних социальных ограничений для личностей и обществ могут выступать другие личности и общества, особенно иерархически вышестоящие и те общества, в которые данная личность (общество) входят в качестве составной части. Внутри общества субъектами социальных ограничений выступают, как правило, правящая элита и большинство, а объектами – не элита и меньшинство.
Выявив сущностные атрибуты и базовые формы социальных ограничений, мы можем перейти к рассмотрению основных функций системы социальных ограничений.
ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ.
Похожие работы
... , чем мы привыкли думать: он расширяется за счет социального исключения, дискриминации и аттитюдов нетипичности, уже включенных в предмет социологии культуры, социологии нетипичности. Объект же социологии образования пересекается с объектом социальной педагогики: обе науки интересует человек в системе социального научения, синтеза социокультурной поддержки и образовательного процесса в социальном ...
... к жизни в условиях ограниченности ресурсов и роста потребностей, целесообразного выбора; - составить представление о целях, задачах, функциях, сущности предпринимательства и его роли в экономической жизни страны; - сформировать навыки участия в предпринимательской деятельности; - развивать экономическое мышление, необходимое для умения правильно обобщать, ...
... мер по реализации внешнеэкономической политики, сотрудничеству с другими государствами и взаимодействию с международными финансовыми организациями; 9) осуществление иных полномочий в соответствии со статусом, определенным Конституцией страны. Общегосударственные финансы управляются Министерством финансов. Аппарат финансовой системы проводит свою деятельность в соответствии с Конституцией ...
... правомерно лишь постольку, поскольку помогает выделить из множества различных государственных функций более широкие по объему и общие по содержанию основные функции государства. Важно подчеркнуть, что основная функция — не конгломерат, а определенная, проникнутая внутренним единством и целеустремленностью система многочисленных направлений деятельности государства. Эта система отличается от ...
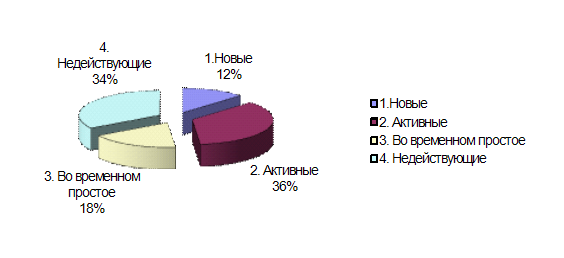
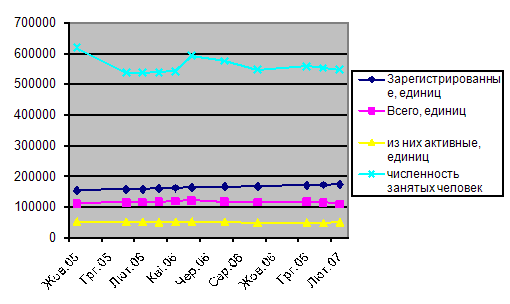
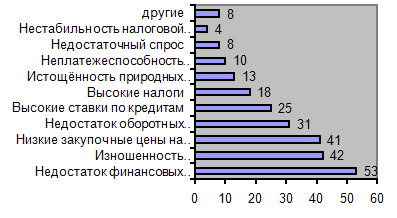
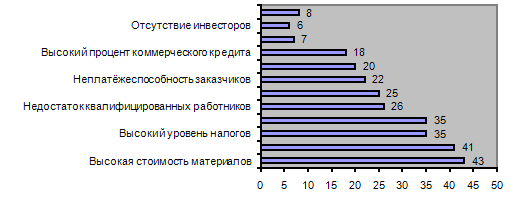

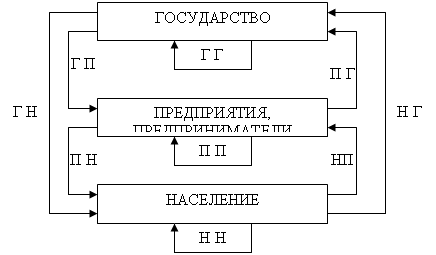
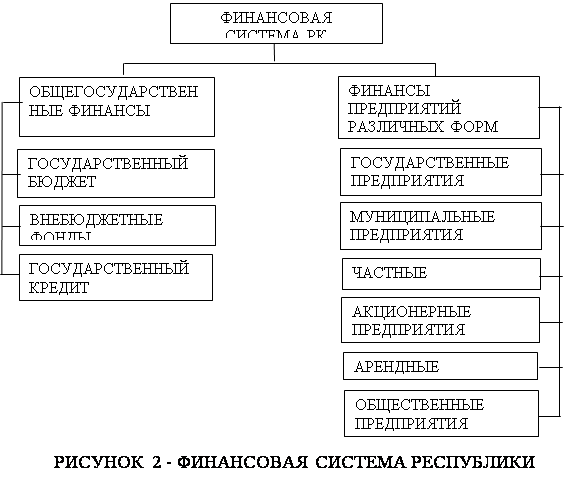
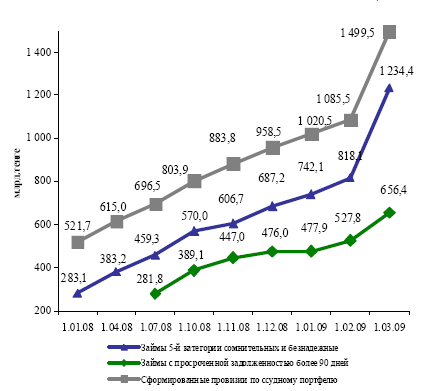
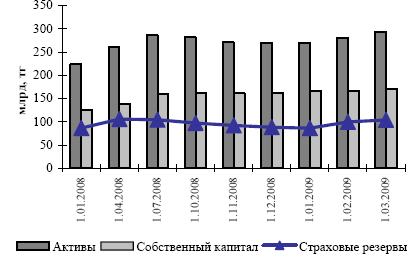
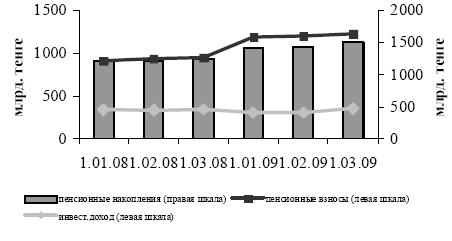
0 комментариев